Китайская конвергенция – полный текст
Китайская конвергенция
(вольный перевод труда Н.С. Лайонс из его блога upheaval)
Ну, вообще-то…
Я считаю, что это самая длинная вещь, которую я когда-либо писал, но и самая важная. Подготовьте крепкие напитки, чтобы прочесть это. – Н.С. Лайонс
Разногласия и напряженность в отношениях между США и Китаем никогда не были столь велики. Весь мир делится между блоками этих двух противоборствующих сверхдержав. Назревает новая “холодная война”, дополненная глобальной идеологической “битвой демократии и автократии”. На кон поставлена не что-то там, а Свобода. Будущее глобального управления будет определяться победителем в этом затяжном соревновании двух принципиально противоположных политических и экономических систем – если только настоящая (горячая) война не решит этот вопрос досрочно в схватке не на жизнь, а насмерть, как когда-то либеральная демократия сражалась с фашизмом.
Вот оно, простенькое изложение нашего сегодняшнего дня. В чем-то оно верно: ведь геополитическая конкуренция действительно переходит в открытое противостояние. Но оно также в корне поверхностно и даже вводит в заблуждение: когда речь идет о самых фундаментальных политических вопросах, Китай и США не то, что не расходятся, а сходятся, становясь все более похожими друг на друга.
Хуже того, я даже могу предсказать и описать то нечто, которое должно одержать верх в этом эпохальном соревновании двух яростно противоборствующих национальных систем. Точнее не нечто, а систему, которая вскоре одержит победу…
Несмотря на риторическую приверженность эгалитаризму и “демократии”, элита глубоко не доверяет и боится народа, над которым она властвует. Эта элита сжалась в отдельное олигархическое политическое тело, ориентированное на приоритет и сохранение своего правления и пересечение набора интересов в единое целое. Охваченные тревогой, они постоянно стремятся максимально усилить свой контроль над массами, обосновывая это необходимостью насильственного поддержания стабильности перед лицом опасных угроз, как внешних, так и внутренних. Все рассматривается как чрезвычайная ситуация. “Безопасность” и “защищенность” стали девизами государства и общества в целом.
Одержимость элиты контролем усиливается верой в “научное управление”, т.е. в способность понять, организовать и управлять всеми сложными системами общества, как машиной, с помощью научных принципов и технологий. Экспертные знания о том, как это сделать, считаются уникальным достоянием элитарного авангарда. Идеологически эта элита глубоко материалистична и открыто враждебна к организованной религии, которая препятствует (по идее должна) и сопротивляется государственному контролю. Самого человека они рассматривают как машину, которую можно запрограммировать, и, считая обычного человека непредсказуемым существом, слишком глупым, иррациональным и жестоким, чтобы управлять им самостоятельно, стремятся неуклонно формировать и заменять его лучшей моделью с помощью инженерии, как социальной, так и биологической. Сложные системы слежки, пропаганды и принуждения используются для того, чтобы жестко подтолкнуть (или подтолкнуть) обывателя к подчинению. Сообщества и культурные традиции, сопротивляющиеся этому проекту, разрушаются. Противоположные идеи подвергаются систематической цензуре, чтобы не допустить их опасного разоблачения. Власть неуклонно повышается, централизуется и распределяется среди технократической бюрократии, не ограниченной никакой ответственностью перед обществом.
Все это оправдывается утопической идеологической диалектикой исторического прогресса и неизбежности. Считается, что те, кто идет в ногу с ходом истории (т.е. с интересами элиты), как класс морально и интеллектуально выше реакционных элементов. Только определенные взгляды получают клеймо “научных” и “правильных”, хотя они могут меняться по политической прихоти. В качестве единственного нравственного ориентира господствует экономизм, ценящий только легко измеряемые величины, а в качестве высшего блага – эффективность без трения; человеку предлагается выполнять отведенную ему роль послушного потребителя и винтика в машине режима, а не самоуправляемого гражданина. Государство регулярно занимается стимулированием и регулированием потребительского спроса, стратегическим регулированием и направлением промышленного производства, корпоративный сектор во многом сросся с государством. Процветает и кумовство.
Неустанный политический месседж и идеологический нарратив пропитал все сферы жизни, инакомыслие пресекается. Культура в значительной степени находится в состоянии стагнации. Выкорчеванные, загнанные и затравленные, люди атомизированы, а уровень социального доверия очень низок. Сама реальность часто кажется неясной и неопределенной. Деморализованные, некоторые с благодарностью воспринимают любую безопасность, предлагаемую государством, как благо. В то же время, многие граждане автоматически принимают за ложь все, что говорит власть. Чиновничество – это отдельная кафкианская трагикомедия абсурда, которую нормальным людям остаётся только стоически переносить. Однако из года в год давление, заставляющее подчиняться, только усиливается…
О какой стране идет речь? Если вы не можете сказать точно, что ж, в этом-то и дело. Для многих граждан Запада системы управления, в которых мы живем, становятся все более похожими на те, что предлагаются в Китайской Народной Республике.
Конечно, это сходство имеет свои пределы: Коммунистическая партия Китая – это жестокий режим, который в прошлом убил десятки миллионов своих граждан и до сих пор управляет ими с помощью железного кулака. Говорить о том, что США или любая другая западная страна идентична Китаю по своей природе, было бы просто смешно.
И все же я собираюсь утверждать, что общие черты действительно растут, и что это не иллюзия, не совпадение или заговор, а результат действия одних и тех же глубинных системных сил и лежащих в их основе идеологических корней. Утверждать, что мы такие же, как Китай, или даже что мы превращаемся в Китай (как я, признаться, подразумевал в заголовке), было бы просто политической приманкой. Реальность более сложна, но не менее тревожна: и Китай, и Запад, по-своему и в своем темпе, но по одним и тем же причинам, сходятся с разных сторон в одной точке – в одной и той же пока не до конца реализованной системе тоталитарного техно-административного управления. Хотя они и остаются разными, но это уже не различие вида, а только степени. Разница только в том, что Китай уже несколько дальше продвинулся по пути к тому же самому будущему.
Но как охарактеризовать эту форму правления, которая уже сегодня начинает оплетать своими щупальцами весь мир, в том числе и США? Многие из нас уже поняли, что при какой бы форме правления мы ни жили, это точно не “либеральная демократия”. Так что же это такое? Чтобы ответить на этот вопрос и объяснить суть “китайской конвергенции”, нам придется начать с краткого курса о становлении и природе технократического управленческого режима на Западе.
“Чтобы увидеть то, что находится перед носом, нужна постоянная борьба”. – Джордж Оруэлл
Примерно во второй половине XIX века в жизни человечества началась революция, которая происходила параллельно с промышленной революцией и развивала ее. Это была революция массовая и масштабная, которая перевернула практически все сферы человеческой деятельности и быстро реорганизовала цивилизацию сначала на Западе, а затем и во всем мире: Ограничения времени и пространства, созданные географией, были сметены новыми технологиями связи и транспорта; значительно увеличившееся население хлынуло в огромные городские центры; массы рабочих стали трудиться на огромных фабриках, а затем в офисах, перебирая бесконечные бумаги, пытаясь уследить за всем этим; в политике появились новые возможности для тех, кто смог воспользоваться растущей силой масс и их голосами, а также новые проблемы в обеспечении их растущих потребностей и желаний. В правительстве, в бизнесе, в образовании и практически во всех других сферах жизни появились новые методы и способы организации, позволяющие управлять растущей сложностью массы и масштаба: массовое бюрократическое государство, массовая постоянная армия, массовая корпорация, средства массовой информации, массовое народное образование и т.д. Это была управленческая революция[1].
Стремительно ускоряясь в XX веке, управленческая революция вскоре привела к еще одной трансформации общества на Западе: она породила новую управленческую элиту. Новый социальный класс возник в результате роста масштабов и сложности массовых организаций, когда эти организации стали обнаруживать, что для своего функционирования они должны опираться на большое количество людей, обладающих необходимыми высокотехническими и специализированными когнитивными навыками и знаниями, включая новые методы организационного планирования и управления в масштабе. Такие люди стали профессиональным управленческим классом, который быстро расширился, чтобы удовлетворить растущий спрос на их услуги. Хотя богатые семьи старой земельной аристократической элиты поначалу продолжали владеть многими из этих новых массовых организаций, вскоре они перестали быть способными управлять ими, поскольку черты, которые долгое время определяли мастерство их роли и статуса – владение землей, унаследованные воинские добродетели, классическое либеральное образование, формальная риторика, личная харизма, обширный кодекс социальных манер и т.д. – перестали быть достаточными и актуальными. Это означало, что управленческий класс вскоре захватил фактический контроль над всеми массовыми формами организациями общества.
Поглощение организации менеджерами ускорилось благодаря тому, что я называю “петлей управленческой обреченности”: чем больше и сложнее становится организация, тем в геометрической прогрессии возрастает потребность в менеджерах; менеджеры, таким образом, имеют сильный стимул к тому, чтобы их организация продолжала расти и усложняться, что приводит к увеличению относительной власти менеджеров; рост означает необходимость найма большего числа менеджеров, которые затем добиваются дальнейшего расширения, в том числе путем обоснования необходимости того, чтобы их раковая бюрократия брала на себя все больше функций широкой экономики и общества; поскольку все большая территория сдается под бюрократическое управление, все больше менеджеров должно быть обучено, что требует еще больше менеджеров…
Как бы то ни было, но расплата за то, какой класс теперь действительно составляет правящую элиту общества, вскоре стала неизбежной. В некоторых местах конец старой аристократии был быстрым и кровавым. Но в большинстве стран Запада они были не уничтожены, а поглощены, причем дети даже самых богатых аристократических семей в конечном итоге были вынуждены сами получать образование, овладевая теми же навыками, идеями и манерами, что и представители управленческого класса, чтобы занять любую заметную роль – от генерального директора до политика и филантропа. Те, кто этого не делал, постепенно теряли актуальность. Управленческий класс породил управленческую элиту.
Это, однако, не означает, что экспансия нового управленческого порядка не встречала никакого сопротивления со стороны старого порядка, который он вытеснил. Прежний порядок, который исследователи управленческой революции называют буржуазным, был представлен не столько крупной буржуазией (богатыми земельными аристократами и ранними капиталистическими промышленниками), сколько мелкой буржуазией, или тем, что можно назвать независимым средним классом. [2] Предприимчивый владелец малого бизнеса, семейный магазинчик, принадлежащий нескольким поколениям, мелкий фермер или землевладелец, религиозный или частный педагог, даже относительно обеспеченный местный врач – все они и им подобные составляли костяк многочисленного социально-экономического класса, который оказался в экзистенциальном противоречии с интересами управленческой революции. Но, вопреки первоначальным прогнозам марксистов, эта буржуазия оказалась под смертельной угрозой не снизу – со стороны трудящегося и безземельного пролетариата, а сверху – со стороны нового порядка управленческой элиты и ее растущих легионов профессиональных революционеров, налегающих на бумагу. Столкновение между этими классами по мере того, как управленческий порядок неуклонно наступал на буржуазный средний класс и его традиционную культуру, демонтируя и поглощая их, и все более отчаянный отпор, который этот процесс вызывал у его остатков, во многом определили политическую драму Запада. В разных формах эта драма продолжается и по сей день.
Враждебность этой классовой борьбы усиливалась особенно антагонистической идеологией, которая стала объединяющей силой для управленческой элиты. Идеология менеджмента, в разных ее проявлениях облеченная в возвышенные формулировки моральных ценностей, философских принципов и социальных благ, так или иначе рационализирует и оправдывает постоянное распространение управленческого контроля на все сферы государства, экономики и культуры, возводя управленческий класс в ранг не только утилитарного, но и морального превосходства над остальными членами общества, в частности, над средним и рабочим классами. Это служит обоснованием легитимности власти управленческой элиты, а также неоценимым средством дифференциации, унификации и координации различных ее ветвей.
Управленческая идеология, являющаяся относительно простым потомком либерально-модернистского проекта эпохи Просвещения, представляет собой формулу, состоящую из нескольких основных убеждений, или, как их можно назвать, основных управленческих ценностей. По крайней мере, на Западе их можно свести к следующим:
- Технократический сциентизм: Убеждение в том, что все, включая общество и человеческую природу, может и должно быть полностью понято и контролируемо с помощью научно-технических средств. С этой точки зрения все состоит из систем, которые работают, как машина, на основе научных законов, которые могут быть рационально выведены с помощью разума. Человек и его поведение являются продуктом систем, в которые он включен. “Социальная наука” функционирует так же, как и физические науки. Поэтому эти системы могут быть социально спроектированы и улучшены. Хорошее и плохое, как и все остальное, поддается научному количественному измерению. Поэтому те, кто обладает высокими научными и техническими знаниями, лучше других понимают причинно-следственные связи, управляющие обществом, и, следовательно, могут управлять им. Невежество и невежественные люди, напротив, в конечном итоге являются причиной всех дисфункций и вреда.
- Утопизм: Вера в то, что совершенное общество возможно – в данном случае благодаря идеальному применению совершенных научных и технических знаний. В конечном итоге машина может быть настроена на безупречную работу. В этот момент все будут полностью обеспечены и, следовательно, абсолютно равны, а сам человек будет полностью разумен, полностью свободен и идеально продуктивен. Это состояние совершенства является telos, или предопределенной конечной точкой, развития человечества (через науку, физическую и социальную). Отсюда возникает идея прогресса, то есть приближения к этой конечной точке. Следовательно, история имеет телеологию: она стремится к утопии. Это также означает, что будущее всегда лучше прошлого, поскольку оно ближе к утопии. История приобретает моральную значимость: “идти назад” аморально. Более того, даже активное сохранение статус-кво безнравственно; управление нравственно лишь в той мере, в какой оно влияет на изменения, продвигая нас все дальше вперед, к утопии.
- Мелиоризм: Убеждение в том, что все недостатки и конфликты человеческого общества и самих людей – это проблемы, которые могут и должны быть непосредственно устранены с помощью достаточной управленческой техники. Нищета, войны, болезни, преступность, невежество, страдания, несчастья, смерть… Все это – примеры человеческого состояния, которые всегда будут с нами, но все это – проблемы, требующие решения. Роль управленческой элиты состоит в том, чтобы выявлять и решать эти проблемы, применяя свои экспертные знания для совершенствования человеческих институтов и отношений, а также мира природы. В конечном счёте не существует компромиссов, есть только решения.
- Либерализм: Убеждение в том, что человека и общество удерживают от прогресса правила, ограничения, реляционные связи, исторические сообщества, унаследованные традиции и ограничивающие институты прошлого – все это цепи ложного авторитета, от которых мы должны освободиться, чтобы двигаться вперед. Старые идеи, старая культура, старые обычаи и старые привычки должны быть разрушены для решения человеческих проблем, поскольку старые системы и образ жизни неизбежно являются невежественными, несовершенными и угнетающими. Новые – и потому более совершенные – научные знания позволяют с нуля создать новые системы и уклады жизни, которые будут функционировать более эффективно и нравственно.
- Гедонистический материализм: Убеждение в том, что полное счастье и благополучие человека в основе своей состоит и достижимо через удовлетворение достаточного количества материальных потребностей и психологических желаний. Наличие любого неудовлетворенного желания или дискомфорта свидетельствует о системной неэффективности необеспеченного блага, которое может и должно быть удовлетворено, чтобы приблизить человека к совершенному состоянию. Поэтому научное управление может и должно в максимально возможной степени способствовать исполнению желаний. Для индивида потребление, удовлетворяющее желания, является нравственным поступком. Напротив, подавление (в том числе и самоподавление) желаний и их исполнения стоит на пути человеческого прогресса и является аморальным, что свидетельствует о необходимости управленческого освобождения.
- Гомогенизирующий космополитический универсализм: Убеждение в том, что:
а) все люди в своей основе взаимозаменяемы и являются членами единого универсального сообщества;
б) что системные “лучшие практики”, открытые научным менеджментом, универсально применимы во всех местах и для всех людей во все времена, и что поэтому одна и та же оптимальная система должна рационально преобладать везде;
в) что, хотя это, возможно, причудливо и забавно, любая не поверхностная особенность или разнообразие места, культуры, обычаев, нации или государственного устройства в любом месте является свидетельством неэффективности и неспособности успешно сходиться к идеальной системе;
и г) что любая форма локализма, партикуляризма или федерализма является не только неэффективной, отсталой, но и является препятствием для человеческого прогресса, а потому опасна и аморальна. Прогресс всегда естественным образом влечет за собой централизацию и гомогенизацию.
- Абстракция и дематериализация: Убеждение, а чаще инстинкт, что абстрактные и виртуальные вещи лучше физических, поскольку чем меньше человек и его деятельность привязаны к грязному физическому миру, тем более раскрепощенными и способными к чисто интеллектуальной рациональности и раскованной морали они становятся. На практике дематериализация, например, через цифровизацию финансов и активов, является мощным растворителем, способным сжечь репрессивные барьеры, созданные привязанностью к особенностям места и людей, заменив их текучестью и универсальностью космополитизма. Дематериализация делает собственность более легко реализуемой, позволяет более эффективно производить гомогенизацию и масштабировать процесс удовлетворения желаний. Действительно, теоретически дематериализация может позволить практически всему принимать и управляться в значительно большей, даже бесконечной, массе и масштабе, что дает надежду на тотальную эффективность: состояние чистого отсутствия трения, в котором изменения (прогресс) будут происходить без усилий и без ограничений. Наконец, дематериализация в самом широком смысле представляет собой идеологическое убеждение в том, что это мир должен соответствовать абстрактной теории, а не теория должна соответствовать миру.
В совокупности эти семь управленческих ценностей послужили для управленческой системы удобным идеологическим средством для того, чтобы бросить вызов существующей этике и ценностям предшествующего ей буржуазного строя среднего класса. Эти буржуазные ценности представляли собой смесь консервативных и классических либеральных ценностей. Нигде эти ценности не были так отчетливо выражены, как в Америке, где они превратились в узнаваемую смесь, включающую: сильный приоритет местного самоуправления, низовой демократии и неприятие контроля сверху; признание разнообразия региональных и местных фольклорных традиций; общий мифический идеал пылкого индивидуализма и энергичной самодостаточности; противостоящая традиция тесной семейной жизни и исключительно широкое участие в многочисленных религиозных, общественных и гражданских ассоциациях и связях (наиболее известное описание Алексиса де Токвиля); “протестантская трудовая этика” и внимание к бережливости и самодисциплине как моральным добродетелям; тесная связь с землей и очень сильная привязанность к собственности среднего класса как центральному элементу республиканского самоуправления и национального характера; политический реализм и консервативное неприятие слишком быстрых и радикальных перемен.
Контрастные ценности управленческой идеологии были идеально выстроены таким образом, чтобы одновременно инвертировать, подрывать, маргинализировать, нарушать и демонтировать каждую из этих буржуазных ценностей, неуклонно подрывая идеологическую основу буржуазной легитимности в интеллектуальном, моральном и политическом плане и тем самым расчищая путь к обоснованию процесса создания альтернативной политической системы правления новой управленческой элиты.
Управленческая система
В рамках этой управленческой системы сформировалось несколько пересекающихся, взаимосвязанных секторов, которые условно можно разделить на следующие категории: управленческое государство, управленческая экономика, управленческая интеллигенция, управленческие СМИ и управленческая благотворительность. В каждом из этих пяти секторов существует своя, несколько уникальная разновидность управленческой элиты, каждая со своими ролями и интересами. Но каждый из них, как правило, действует из собственных интересов, укрепляя и защищая интересы других секторов и системы в целом. Все сектора связаны между собой общим интересом в расширении технических и массовых организаций, увеличении числа менеджеров и маргинализации неуправленческих элементов.
Управленческое государство, характеризующееся разрастанием административной бюрократии и жаждой централизованного технократического контроля, заинтересовано в запуске утопических и мелиористических схем “освобождения” и реорганизации все новых и новых слоев общества (теоретические основы которых разрабатываются управленческой интеллигенцией), требующих совершенно новых слоев бюрократического управления (и совершенно новых категорий “экспертов”). Массовые корпорации, составляющие управленческую экономику, заинтересованы в реализации этих схем, в том числе и потому, что новые слои регулятивного бремени, которые они неизбежно порождают (больше юристов, больше менеджеров по персоналу и т.д.), систематически дают преимущества крупным олигополистическим компаниям, таким как они сами, над мелкими предприятиями и начинающими предпринимателями, которые являются как их потенциальными конкурентами, так и старой буржуазной базой власти. Естественно, что управленческое государство стремится сломать и эту конкурирующую базу. Особенно хорошо это удается массовым корпорациям, в частности, за счет дематериализации бизнеса и собственности (“не будешь ничем владеть и будешь счастлив”), что одновременно усиливает зависимость среднего класса и концентрирует все большее богатство и власть в руках менеджеров. Управленческое государство также непосредственно стимулирует совокупный потребительский спрос и укрепляет финансиализированные активы с помощью денежно-кредитной и фискальной политики, а также других инструментов, таких как государственные заказы и субсидии; этот управляемый спрос непосредственно подпитывает рост управленческих корпораций, которые имеют все стимулы для того, чтобы как можно теснее слиться с государством, как для стимулирования, так и для захвата политики регулирования. Рост массовых корпораций, в свою очередь, рационализирует дальнейший рост регулирующего государства. Формальное и неформальное “государственно-частное партнерство” между корпорацией и государством легко отвечает интересам обеих сторон.
При этом управленческая корпорация также многое выигрывает от проекта массовой гомогенизации, который позволяет добиться большего масштаба и эффективности (Walmart в каждом городе, Starbucks на каждом углу, Netflix и Amazon на iPhone в каждом кармане) за счет разрушения дифференциации старого порядка. Государство, которое больше всего на свете боится и презирает местный контроль, оправданный дифференциацией, с радостью помогает. Управленческая экономика также получает прямую выгоду от стимулирования повышенного потребительского спроса, вызванного освобождением масс от репрессивных норм старого буржуазного морального кодекса и поощрением гедонистических альтернатив – придуманных интеллигенцией, рекламируемых СМИ и законодательно поддерживаемых государством. Масс-медиа также заинтересованы в гомогенизации, позволяющей продаваемым ими развлечениям и нарративам масштабироваться и охватывать все более широкую и однородную аудиторию. СМИ, уже ставшие результатом интеграции журналистики с массовой корпорацией, также заинтересованы в интеграции с интеллигенцией и государством, чтобы получить привилегированный доступ к информации; просвещённая интеллигенция в свою очередь опирается на СМИ для утверждения своего престижа, а государство, само собой, заинтересовано в слиянии со СМИ для эффективного распространения избранной информации и нарративов, которые оно хочет донести до масс.
По мере того, как старая сеть обьединений семей, социальных ассоциаций, религиозных общин, благотворительных фондов и других институтов низовой буржуазной общественной жизни разрушается под воздействием управленческой системы, управленческая филантропия, финансируемая за счет богатства, производимого управленческой экономикой, и предоставляющая элите возможность трансформировать это богатство в социальную власть без уплаты налогов, стремится заполнить пустоту грубым симулякром (прим. синоним иллюзии подобия), предлагая вместо него филантропические инициативы сверху, управленческие некоммерческие организации и активистские движения, созданные по принципу астротурфа (прим. синоним искусственной травмы). Они неизбежно работают на распространение управленческой идеологии и утопических социально-инженерных кампаний государства, еще больше разрушая буржуазный порядок. Разрушение этого порядка неизбежно порождает новые социальные проблемы, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для управленческой благотворительности, предлагающей “решения”. Управленческое государство, СМИ и корпорации охотно участвуют в этих атаках, а интеллигенция предлагает как идеи, так и готовых управленцев-доброхотов для работы на передовой.
Наконец, управленческая интеллигенция выступает авангардом всей управленческой системы, создавая объединяющую идеологическую базу, которая служит интеллектуальным фундаментом, обоснованием и источником моральной легитимности системы [3]. Идеологические установки интеллигенции, транслируемые в общество как будто это прописная истина (например, “наука”, “по мнению ученых”) управленческими СМИ, служат нормализации и оправданию схем государства, которое, в свою очередь, благодарно поддерживает интеллигенцию государственными деньгами и программами массового образования населения, направляя спрос на них. Так называемая управленческими СМИ “Наука”, служит нормализации и оправданию схем государства, которое, в свою очередь, с благодарностью поддерживает интеллигенцию государственными деньгами и программами массового образования, направляя спрос в институты интеллигенции, а также финансируя исследования и разработки новых технологий и организационных приемов, способствующих дальнейшему расширению управленческого контроля. Разумеется, интеллигенция оказывает важнейшую услугу и всем другим управленческим секторам, удовлетворяя потребность в формировании более профессиональных представителей управленческого класса через массовое образование, что также способствует гомогенизации общества и дальнейшей культурной гегемонии элиты. Таким образом, управленческая интеллигенция выступает в качестве ключевого элемента широкого и устойчивого единства и доминирования управленческой элиты (что собственно и определяет ее как элиту).
Эту гегемонистскую, самоподдерживающуюся систему пересекающихся интересов управленческой элиты – государственных и частных, экономических, культурных, социальных, государственных – можно назвать управленческим режимом. Идентифицировать или описать этот режим как просто “государство” было бы совершенно недостаточно. Как мы увидим, эволюция этого более широкого режима является сегодня центральным фактором китайской конвергенции.
Но сначала необходимо рассмотреть одно важное историческое различие в возникновении и развитии управленческих режимов.
Менеджеризм: жесткий и мягкий
То, что описано выше, представляет собой управленческий режим в том виде, в каком он сформировался в США и ряде других западных стран в XX веке. Однако это не единственный вид управленческого режима, сформировавшийся за это время.
Когда коммунистическая партия захватила власть в Китае, буржуазия и старая аристократия не были мягко принуждены к вступлению в управленческую элиту. Напротив, как и кулаки (крестьяне-середняки) в СССР времён Ленина и Сталина, они были практически истреблены. Бесконечная череда кровавых “кампаний”, начатых Мао Цзэдуном во имя освобождения против “помещиков”, “богатых крестьян”, “правых”, “контрреволюционеров” и “буржуазных элементов”, преследовала одну и ту же цель. Путем неустанных коллективных преследований, конфискации имущества, массовых пыток, изнасилований и убийств буржуазный средний класс, начавший формироваться в республиканский период Китая, планомерно уничтожался.
Это преследовало вполне понятную цель. Теоретики политики, начиная с Аристотеля, признавали, что “многочисленный средний класс, стоящий между богатыми и бедными”, является естественной основой любой стабильной республиканской системы правления, противостоящей как господству плутократической олигархии, так и тираническим революционным требованиям беднейших слоев населения. Ликвидировав этот класс, который был опорой его националистических соперников, Мао открыл путь для марксистско-ленинской революции, возглавляемой интеллигенцией, чтобы уничтожить все остатки республиканского правления, заменить старую элиту новой и полностью взять под контроль китайское общество.
Результатом стал, конечно, не эгалитарный рай для трудящихся, а формирование строго двухуровневого общества, состоящего из партийной олигархии и всех остальных. Все возможные ориентирующие и организующие силы вне партии были уничтожены, семейные связи сознательно разрушены, а люди изолированы и атомизированы. При этом олигархия вскоре должна была вырасти в гигантскую бюрократическую партию-государство, управляемую легионами преданных КПК аппаратчиков. В условиях отсутствия посреднических институтов между народом и государством, когда недифференцированные массы были полностью сдержаны неоспоримой властью однопартийного государства, Мао удалось, по сути, создать в Китае “Левиафана” Гоббса. После этого он и его соратники получили возможность реализовать свои утопические планы по перестройке страны по принципу “научного” социализма (убив при этом десятки миллионов китайцев). И хотя современный Китай несколько мягче, чем в эпоху Мао, его режим по своей сути ничем не отличается. Им по-прежнему управляет марксистско-ленинская партия, которая никогда не забывала убежденности Мао в том, что власть растет из дула пистолета.
Таким образом, жестокая история и характер китайского коммунистического режима сильно отличаются от того, с чем сталкивается большинство стран Запада (за исключением Восточной и Центральной Европы). И все же – если вы до сих пор следили за развитием событий – Китай с его огромным техно-бюрократическим социалистическим государством все еще остается узнаваемым управленческим режимом. Точнее, Китай – это жесткий управленческий режим.
С тех пор как в 1941 году политический философ Джеймс Бернхем опубликовал свою фундаментальную книгу “Управленческая революция”, теоретики управленческого режима отмечают сильное сходство между всеми основными современными государственными системами, возникшими в XX веке, включая систему либерально-прогрессивного управления, которую в то время представляла Америка Рузвельта, фашистскую систему, созданную Муссолини, и коммунистическую систему, которая сначала появилась в России, а затем распространилась в Китае и других странах. Все эти системы имели в своей основе управленческий характер. Но при этом каждая из них сразу же продемонстрировала несколько… э-эм… совершенно иное поведение. Однако эти различия можно в значительной степени объяснить, если провести различие между мягкими и жесткими управленческими режимами, которые политический теоретик Сэм Фрэнсис назвал мягкими и жесткими.
Характер мягкого управленческого режима – тот, который был описан в предыдущем разделе. В отличие от него, жесткий управленческий режим несколько отличается по набору ценностей. Жесткие управленческие режимы, как правило, отвергают две из семи ценностей “мягкой” управленческой идеологии, описанных выше, отказываясь от гедонизма и космополитизма (хотя гомогенизация и централизация остаются в приоритете). Вместо этого они склонны делать акцент на управлении единством коллектива (например, volk, или “народ”) и той ценностью, которую представляют для этого коллектива индивидуальная преданность, сила и самопожертвование [4].
Самое главное, что жесткие и мягкие управленческие режимы различаются по подходу к контролю. Жесткие управленческие режимы, как правило, используют силу и угрозу ее применения для принуждения к стабильности и повиновению. Кроме того, в жестких системах государство, как правило, играет гораздо более открытую роль в управлении экономикой и обществом, создавая государственные корпорации и осуществляя прямой контроль над СМИ, а также содержит крупные службы безопасности. Это, однако, может привести к снижению доверия населения к государству и его органам.
Мягкие управленческие режимы, напротив, в большинстве своем не умеют и не любят открыто применять силу и предпочитают поддерживать контроль с помощью управления нарративами, манипуляций, гегемонистского контроля над культурой и идеями. Управленческое государство также иногда ограничивает свою власть, делегируя определенные функции другим секторам управленческого режима, которые претендуют на независимость. Они действительно независимы в том смысле, что не контролируются государством напрямую и могут делать то, что хотят, но, будучи управленческими институтами, укомплектованными управленческой элитой, а значит, заинтересованными в управленческом императиве, они, тем не менее, действуют почти в полной синхронизации с государством. Такая диффузия позволяет эффективно скрыть масштаб, единство и мощь “мягкого” управленческого режима, а также отвести и ослабить любую ответственность. Такой мягкий подход к поддержанию господства управленческого режима может приводить к большему количеству повседневных нарушений (например, преступности), но не менее политически стабилен, чем жесткий (а на сегодняшний день, возможно, и более стабилен).
Несмотря на эти различия, все формы управленческого режима имеют общие фундаментальные характеристики и базовые ценности, включая приверженность технократическому наукообразию, утопизм, мелиоризм, гомогенизацию, а также ту или иную форму либерализма, направленную на разрушение прежних систем, норм и ценностей. Все они преследуют один и тот же императив –
рост числа и влияния организаций, влияющих на массы,
расширение власти управленческой элиты,
централизация их бюрократической власти и контроля,
и разумеется систематическая маргинализация противников менеджериализма. Все они имеют одни и те же философские корни. И все их элиты разделяют схожие глубинные тревоги по поводу общества.
Часть 2. Как сделать демос (народ) безопасным для демократии.
После восстания 17 июня
Секретарь Союза писателей
Раздавал листовки в Сталиналье
В них говорилось, что народ
утратил доверие к правительству
И вернуть его можно только
только удвоенными усилиями. Не проще ли было бы
В таком случае правительству
Распустить народ
и избрать себе другой народ? – Бертольт Брехт, “Решение” (1953)
“В великом споре последних двух десятилетий о свободе и контроле над сетью Китай был в основном прав, а Соединенные Штаты в основном ошибались”. Так заявил неоконсервативный юрист и бывший помощник генерального прокурора администрации Буша Джек Голдсмит в своем эссе о демократии и будущем свободы слова, опубликованном в журнале The Atlantic в 2020 году. “Значительный мониторинг и контроль над речью являются неизбежными компонентами зрелого и процветающего Интернета, и правительства должны играть большую роль в этой практике, чтобы обеспечить соответствие Интернета нормам и ценностям общества”, – пояснил он. “Сотрудничество частного сектора с правительством в этих усилиях представляет собой исторический и очень публичный эксперимент по адаптации нашей конституционной культуры к нашему цифровому будущему”.
Еще в 2000 году президент Билл Клинтон высмеял первые попытки китайского правительства ввести цензуру в Интернете, заявив, что это “все равно что пытаться прибить желе к стене”. К моменту публикации статьи Голдсмита во флагманском салоне американского правящего класса два десятилетия спустя подобное презрение сменилось… открытым восхищением. Начиная сразу после избрания Дональда Трампа в 2016 году, а затем ускоряясь в геометрической прогрессии в 2020 году, американская элита, в частности Эмили Бейзлон из The New York Times, стала регулярно утверждать, что страна находится “в разгаре информационного кризиса”, несущего “катастрофические” риски ущерба, и что на самом деле “свобода слова угрожает демократии в той же степени, в какой она обеспечивает ее процветание”. Американскому народу придется смириться с тем, что его права на свободу слова будут ограничены ради его же блага.
Как мы теперь знаем благодаря разоблачениям “Файлов Twitter” и другим материалам, для захвата контроля над интернет-дискурсом и управления сознанием американцев вскоре был создан разросшийся “Цензурно-промышленный комплекс”. Миллиарды долларов государственных денег потекли в спецслужбы, которые получили новую миссию – вести информационную войну против собственного народа во имя борьбы с “дезинформацией”. Гигантским американским компаниям, занимающимся интернет-технологиями, потребовалось лишь легкое подталкивание, чтобы по указанию государства начать осуществлять массовую слежку и цензуру информации, признанной “вредной” (даже признанной “правдивой”), поскольку она противоречит пропагандистской линии, определяемой режимом. Тысячи американских интеллектуалов в одночасье стали экспертами по “дезинформации”. В координации с этими учеными и неправительственными организациями средства массовой информации приступили к организации операций по “проверке фактов”, чтобы произвольно объявлять, что является правдой, а что нет, рассказывая публике небылицы об иностранном вмешательстве и темных потоках сетевой “ненависти”, которые удобно оправдывают деплатформу растущей независимой конкуренции в Интернете.
Наступление пандемии COVID-19 в 2020 г. было использовано как повод для усиления этой атаки на общественность. Как недавно подтвердил Джейкоб Сигел в своей книге посвященной истокам “войны с дезинформацией”, управленческое государство быстро переориентировало все инструменты, методы и гипертрофированные бюрократические автоматы (прим. оружие), разработанные им для ведения “глобальной войны с террором”, на ведение контрповстанческой кампании против собственных граждан.
Что-то изменилось в расчетах американской элиты. Их резкий разворот в сторону свободы слова и совещательной демократии, традиционно отличавшийся хотя бы смутным либерализмом, представляет собой парадигматический пример процесса окончательной замены классического либерализма старого порядка на открытое принятие тотального технократического менеджеризма, который мы рассмотрим более подробно в ближайшее время. Но что именно послужило причиной такого резкого сдвига?
Восстание общества, восстание элиты
Наиболее очевидным объяснением того, почему управленческая элита решила поторопиться и сбросить с себя остатки старых американских ценностей, является паника. Они запаниковали, потому что пережили момент, когда им показалось, что они почти потеряли контроль над ситуацией. Это был 2016 год, когда социалист Берни Сандерс едва не победил Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии, британский народ решил, что с него хватит ЕС, а затем, что самое вопиющее, на президентских выборах в США победил совершенно неклассовый Дональд Трамп. Ничего этого не должно было произойти; в каждом случае люди должны были проголосовать так, как надо, так, как планировала элита, но они не проголосовали. Хуже того, они, похоже, проголосовали неправильно в рамках более широкой тенденции, когда население специально реагирует против и бросает вызов контролю управленческой элиты.
Бывший аналитик ЦРУ Мартин Гурри ввел термин “восстание общественности” для описания продолжающегося явления, когда во всем мире авторитет и легитимность элитных институтов рухнули. А рухнули они потому что цифровая революция подорвала способность традиционных элитных привратников полностью контролировать доступ к информации и монополизировать общественный нарратив. Падение иерархических привратников (таких, как традиционные СМИ) способствовало обнажению собственных, институциональных и политических провалов элиты, а также широко распространенной коррупции и более широкой реальности того, что сама управленческая система функционирует практически без реального общественного участия и подотчетности. Это способствовало росту общественного разочарования и гнева в связи с хроническими и нарастающими проблемами статус-кво, мобилизуя повстанческие политические движения на создание демократических вызовов истеблишменту.
Но для управленческой элиты характер этого восстания еще более угрожающий, чем предполагает Гурри. На Западе это восстание не только направлено против правящей управленческой технократии, но и, что особенно важно, проводится именно историческими классовыми врагами управленческой элиты – остатками старого буржуазного среднего класса.
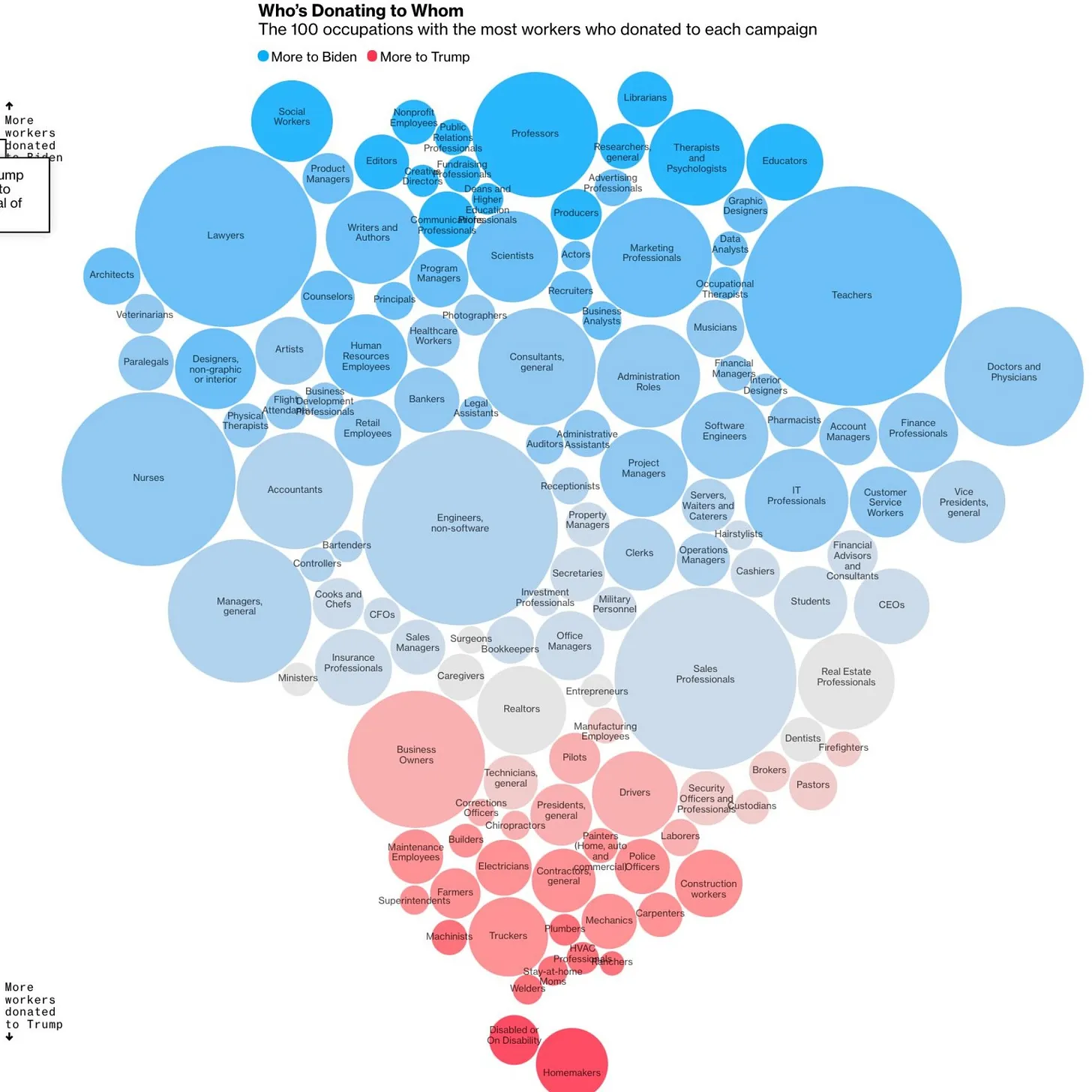
Для управленческой элиты это было явлением из страшного кошмара. Они думали, что навсегда сломали и уничтожили старый порядок. Теперь он, казалось, пытается выбраться из могилы истории, где ему и место (по их мнению), чтобы отомстить и вернуть всех в темные века, пока просвещенное управленческое правление не принесло миру весть о прогрессе (прим. сарказм). Перспектива возвращения реальной власти в руки их традиционных врагов представлялась смертельной угрозой для будущего управленческого класса.
Поэтому по всему Западу управленческая элита немедленно пришла в ярость от опасности, которую якобы представляет “популизм”, и начала свой собственный бунт, объявив шмиттианское государство исключения, в котором все стандартные правила и нормы демократической политики могут быть приостановлены для того, чтобы ответить на этот экзистенциальный “кризис”. Более того, некоторые стали задаваться вопросом о том, не придется ли для спасения демократии приостановить и саму демократию.
“Пора элите восстать против невежественных масс”, – гремел журналист журнала New York Time Джеймс Трауб в своей культовой статье, опубликованной в 2016 году в журнале Foreign Policy. Эта точка зрения быстро стала открытой и гордой в среде управленческой элиты, которая уже не стеснялась выражать свое разочарование демократией и ее избирателями. (“Я сказал “невежественный”? Да, сказал. Надо сказать, что люди заблуждаются и что задача руководства – их развенчать”, – заявил Трауб). “Слишком много демократии убивает демократию”, – так сформулировал свою позицию неоконсервативный журнал The Bulwark в статье 2019 года, призывая западные страны принять “горькое технократическое лекарство” и создать “политический, социальный и культурный договор, который сделает участие многих ненужным”.
Однако это восстание элиты против демократии не может быть полностью понято как реакция только на ближайшие события, какими бы возмутительно оранжевыми и грубыми они ни казались. Скорее, популистские бунты, возникшие в 2016 году, вызвали столь интенсивную и откровенно антидемократическую реакцию потому, что они напрямую сыграли на гораздо более глубоком комплексе управленческих тревог, мечтаний и навязчивых идей, корни которых уходят в глубь веков.
Демократия и “демократия”
Это был 1887 год, и Вудро Вильсон считал, что у Америки есть проблема: слишком много демократии. Вместо этого ей нужна “наука управления”. “Демократическое государство еще не приспособлено для несения того огромного бремени управления, которое так быстро накапливается в связи с потребностями нашего промышленного и торгового века”, – писал молодой профессор политологии в своей самой влиятельной научной работе “Изучение управления”.
Под глубоким влиянием социал-дарвинизма и евгеники,[5] выражая свое презрение к идее быть “связанным доктринами, которых придерживались авторы Декларации независимости” (“много чепухи… о неотъемлемых правах личности”), и особенно нетерпимо относясь к настойчивому утверждению в Конституции идеи “сдержек и противовесов”, Вильсон считал, что американское государство должно развиваться или умереть. Слишком долго оно было “оседлано привычками” конституционализма и совещательной политики; теперь сложность мира становилась слишком большой для таких устаревших принципов, которые “не имели более непосредственного практического значения, чем вопросы управления”.
Утверждая острую необходимость “сравнительных исследований в области государственного управления”, он призвал американских руководителей оглянуться на мир и увидеть, что “администрация повсеместно прикладывает руку к новым начинаниям”, а “идея государства и вытекающий из нее идеал его обязанностей претерпевают заметные изменения”. Америка тоже должна была измениться. “Видя каждый день новые вещи, которые должно делать государство, необходимо ясно представить себе, как оно должно их делать”, – писал он. Просто как.
Но что же все-таки Вильсон подразумевал под словом “администрация”? “Администрация лежит вне сферы политики”, – писал он. “Административные вопросы – это не политические вопросы”. Под этим он подразумевал, что все дела современного государства, все “новые вещи, которые должно делать государство”, должны быть поставлены выше любого вульгарного вмешательства со стороны политики – то есть выше любых демократических дебатов, выбора или подотчетности – и вместо этого переданы возвышенному классу образованных людей, чьей постоянной “профессией” должно быть управление сбродом. Вильсон прямо предлагал править “универсальным классом”, описанным Гегелем: всезнающим и благодетельным классом экспертов-“государственных служащих”, которые, используя свой большой мозг и опираясь на универсальные принципы, вытекающие из Разума, могли бы уникальным образом определять и действовать в общих интересах общества с гораздо большей точностью, чем невежественные, нерафинированные массы.
По мнению Вильсона, мнение реальной общественности было не более чем “неуклюжей помехой, деревенщиной, управляющей деликатным механизмом”. В целом администрирование действительно означало управление правительством как машиной, и нельзя было допустить, чтобы общественность заедала там где-то в механизмах. Более того, машинам нужны инженеры, а это значит, что “необходимо организовать демократию, направив на… государственную службу людей, определенно подготовленных к тому, чтобы выдержать либеральные тесты на знание техники”. Вскоре “технически образованная гражданская служба станет необходимой”, – полагал он, описывая укоренение власти управленческого класса.
Отчасти Вильсон отстаивал свою личную страсть к Германии. В частности, он хотел, чтобы Америка импортировала политическую модель, которая произвела на него наибольшее впечатление во время его собственных “сравнительных исследований в области управления”: прусское административное государство “железного канцлера” Отто фон Бисмарка. По мнению Вильсона, прусская система представляла собой наилучшую модель для максимального ускорения прогресса. Парламентская, но при этом авторитарная, она сочетала в себе самые просвещенные экономические и социальные достижения того времени – первое государство всеобщего благосостояния, программы массового образования, возглавляемую государством Культуркампф (“культурную войну”) против католической церкви и всех отсталых сил реакции – с политической уверенностью, стабильностью и эффективностью. И самое главное – была создана профессиональная бюрократия (т.е. “администрация”) управленцев, которым были даны полномочия и свобода действий, чтобы направлять развитие страны по рациональным, “научным” направлениям. Спустя два десятилетия Вильсон получит возможность начать навязывать Америке нечто подобное этой модели.
Проводя предвыборную кампанию, в частности, на основе обещания использовать власть правительства во имя “новой свободы”, которую он рекламировал как всеобщую социальную справедливость, Вильсон пробился к власти в 1912 г. как первый и, к счастью, единственный профессор политологии, когда-либо избранный президентом США.[6] Он пришел ко власти, опираясь на новое американское Прогрессивное движение, которое с готовностью взяло за образец модную в то время Прогрессивную партию Германии. Будучи новаторским политическим альянсом, новая партия хитроумно объединила корпоративных деятелей Германии с государственными бюрократами и научной интеллигенцией (получивших прозвище Kathedersozialisten, или “социалисты наделенного кресла”), объединив их для проведения социальных и экономических реформ “сверху вниз”, от которых все они только выигрывали. Таким образом, надежда Вильсона на то, что Америка обратится к немецкой модели для вдохновения, оправдалась.
За время своего президентства (1913-1921 гг.) Вильсон, воспользовавшись, в частности, возможностью, предоставленной кризисом Первой мировой войны, возглавил первую большую централизаторскую волну американской управленческой революции, создав большую часть первоначальной основы современной административной бюрократии, включая введение первого федерального подоходного налога, создание Федеральной резервной системы, Федеральной торговой комиссии и Министерства труда.[7]
Он также правил, пожалуй, как самый авторитарный исполнительный орган в истории США, криминализируя высказывания с помощью законов о шпионаже и подстрекательстве, вводя массовую цензуру через почтовое ведомство, создавая специальное министерство пропаганды (Комитет общественной информации) и используя своего генерального прокурора для широкого преследования и заключения в тюрьму своих политических оппонентов. За два года войны при Вильсоне было арестовано и заключено в тюрьму больше диссидентов, чем в Италии при Муссолини за все 1920-е годы.
Но самым важным наследием Вильсона стало начало процесса “организации демократии” в Америке, как он и мечтал, будучи академиком: “универсальный класс” управленцев отныне будет определять и управлять от имени истинной воли народа; демократия перестанет быть беспорядочной, а станет неуклонно более управляемой, предсказуемой и научной. С этого момента начало меняться и само определение демократии: “демократия” перестала означать самоуправление демоса – народа, осуществляемое посредством голосования и выборов; вместо этого она стала означать институты, процессы и прогрессивные цели самой управленческой государственной службы. В свою очередь, реальная демократия превратилась в “популизм”. Для защиты святости “демократии” теперь требовалось защитить управленческое государство от демоса, сделав управление менее демократичным.
Сегодня это видение “управляемой демократии” (также известной как “управляемая демократия”) является формой правления, к которой стремятся элиты всего мира. В своих более благожелательных воплощениях она успешно установила упорядоченные режимы в таких странах, как Сингапур и Германия, где народ по-прежнему имеет право голоса, но реальная оппозиция “паровому катку” государственной политики не допускается. В такой системе народу предлагается удовлетворение от того, что его мнение “выслушано” политико-административным классом, но это мнение всегда может быть отмечено и отклонено, если оно представляет опасность для “демократии” и ее интересов. Здесь, похоже, нашел свое решение старый вопрос Вильсона о том, как “сделать общественное мнение эффективным, не подвергая его вмешательству”.
В Китайской Народной Республике эта логика уже доведена до конца. Народное голосование в Китае, может быть, и отменено, но это все равно демократия (об этом сказано в Конституции!). Вместо выборов партия (которая существует исключительно для того, чтобы вечно представлять народ) строго оценивает волю и интересы масс в процессе внутренних консультаций и обсуждений, которые она называет “народной демократией полного процесса” – сокращенно “консультативной демократией”.
Консультативная демократия имеет серьезные преимущества перед традиционной с точки зрения максимизации управленческой эффективности, поэтому она давно вызывает восхищение западных элит. “На самом деле я восхищаюсь Китаем, потому что их базовая диктатура позволяет им в мгновение ока развернуть свою экономику и сказать, что мы должны стать “зелеными”, – пояснил, например, Джастин Трюдо из Канады (правда, обычно спотыкаясь на своих словах и забывая назвать Китай демократией, а не диктатурой). Или, как однажды выразился представитель элиты Томас Фридман из The New York Times, если бы мы могли хотя бы на день стать “Китаем”, то государство могло бы, “знаете ли, санкционировать правильные решения… по всем вопросам – от экономики до экологии”. В целом быть похожими на Китай хотя бы на время было бы очень удобно, поскольку, как услужливо пояснил Фридман в своей книге “Горячий, плоский и переполненный”, “как только сверху будут даны указания, мы преодолеем худшую сторону нашей демократии (неспособность принимать важные решения в мирное время) и уже на следующий день сможем насладиться лучшей стороной нашей демократии (силой нашего гражданского общества заставить правительство придерживаться правил и силой наших рынков использовать их в своих интересах)”.
Власть “больших мозгов”, принимающих решения, для продвижения прогресса путем форсирования больших изменений; “гражданское общество”, способное закрепить и обеспечить выполнение государственных директив сверху; рынки, способные симбиотически получать прибыль от изменений сверху вниз: как указывает Фридман, консультативная демократия предлагает все лучшие стороны “демократии” без лишних хлопот. Никакого риска, что популисты будут ласкать хрупкие механизмы! Неудивительно, что западная управленческая элита была сражена этим видением и многочисленными преимуществами, которые оно дает (для себя), и поэтому повсеместно с растущим рвением бросилась адаптировать и внедрять его у себя так быстро и в максимальном объеме, как это только возможно. Вильсон был бы горд.
Однако они понимают, что даже такая структурная организация в конечном счете никогда не будет достаточной для защиты “демократии” в одиночку. Вновь и вновь сталкиваясь с неподатливостью народной упрямой натуры, они давно уже пришли к другому неявному выводу: коренной вызов “демократии” бросают не структуры власти, а демос – сам простой человек. Он – проблема, требующая решения на гораздо более глубоком уровне. Если сделать демос безопасным для “демократии”, то его место займет совершенно новый, более безопасный человек.
Мистер Наука и новый человек
Психолог, философ-инструменталист и крупнейший американский прогрессивный педагог Джон Дьюи приземлился в Китае 1 мая 1919 года. Это было за три дня до начала движения “Четвертое мая” – антитрадиционалистской волны, которая выросла из студенческих протестов в Пекине и превратилась в крестовый поход за радикальные преобразования в стране. Через два года, в 1921 г., на ее основе возникнет Коммунистическая партия Китая. Лозунг студенческого движения призывал Китай принять “господина науку” и “господина демократию”, и с появлением Дьюи казалось, что “господин наука” уже пришел. Чэнь Дусю, один из основателей КПК, сказал, что, по его мнению, Дьюи воплотил в себе весь дух движения. Мао Цзэдун считал его теорию образования “достойной изучения”.[8] Обожаемый как прогрессивный и модернизирующий герой, Дьюи остался в Китае на два с лишним года, прочитав более двухсот лекций перед многотысячными толпами поклонников. Многие из этих лекций были затем переведены в книги, ставшие бестселлерами и разошедшиеся по всей стране. Его называли “вторым Конфуцием” и прозвали Дьюи Ду Вэй, или Великий Дьюи.
Дьюи Великий уже помог преобразовать Америку. Будучи одним из лидеров прогрессивного образовательного движения в США, он успешно возглавил миссию по полной перестройке американской системы образования, превратив исторические гуманитарные колледжи страны в копии новых модных немецких “исследовательских университетов” с централизованным управлением, а также в целом перестроив цели и педагогику государственного образования. В то время как западные учебные заведения на протяжении столетий уделяли основное внимание передаче культуры и формированию характера подопечных студентов путем изучения гуманитарных наук и классических добродетелей, Дьюи считал такой подход устаревшим и, по сути, аморальным. Под влиянием новой философии логического позитивизма он считал, что прививать учащимся веру в объективную истину и авторитетные представления о добре и зле вредно, поскольку “конструированием добра” занимается сам человек. Поэтому система образования должна отказаться от своей вековой миссии и сосредоточиться на обучении студентов техническим навыкам, необходимым для жизни в современном индустриальном обществе, включая, что особенно важно, “умение мыслить” в рациональных, научных терминах.
Но, конечно, Дьюи и его единомышленники хотели формировать характер американских детей, только не так, как это было принято в прежние времена. Для Дьюи, считавшего, что демократия – это не форма правления, а этический проект, соединение управления с научным методом было единственно возможным путем к достижению политического и человеческого прогресса. Но для этого нужно было сначала изменить избирателей демократии.
Дьюи считал государственное образование “основным методом социального прогресса и реформ” именно потому, что оно, как он писал, является “единственным надежным методом социальной реконструкции”. Социальная реконструкция означала реорганизацию общества. Фрэнк Лестер Уорд, учитель и наставник Дьюи (и первый президент Американской социологической ассоциации), был еще менее сдержан: цель формального образования, по его словам, теперь должна заключаться в “системном процессе производства правильных мнений” в общественном сознании. (Поэтому, добавлял он, образование должно быть поставлено под исключительный контроль государства, поскольку “результат, которого желает государство, совершенно иной, чем тот, которого желают родители, опекуны и ученики”).
Перестройка общества по научному образцу потребовала бы перестройки человека под новую машину. Реконструированное общество должно было быть построено на основе реконструированного человека: нового человека, освобожденного от всех грубых суеверий своего прошлого и грязных иррациональностей своей прежней природы. Этот антропологический проект и был истинной целью Дьюи и его движения за прогрессивное образование: они были теми, кто выставляют условия. Дьюи и его коллеги получили возможность начать этот поиск с революции в системе образования, чтобы сделать будущие поколения более податливыми, систематически отрывая их от прошлого и традиционной лояльности и деконструируя весь образ их мировосприятия.
Мао же с особым рвением взялся за реализацию этого проекта. Прогрессивные американцы начала XX века, такие как Дьюи и Вильсон, привыкли считать Китай и китайский народ удивительно “пластичными”, особенно подходящими для того, чтобы их по своему усмотрению формировали руки “сильных и способных западных людей”, как размышлял Вильсон в 1914 году. Эта страна, по их мнению, могла бы стать идеальной лабораторией для социальных экспериментов. Мао был согласен. Китайский народ, любил говорить он, “во-первых, беден, а во-вторых, пуст”, т.е. является идеальным холстом для его коммунистического видения. Это, конечно, было не совсем так: китайцы обладали тысячелетней богатой историей и традиционной культурой. Поэтому для того, чтобы сделать сознание людей настолько пустым, как хотелось бы, Мао пришлось изрядно потрудиться.
Этого он добивался с помощью процесса, названного им “реформой мышления”. Впервые опробованная в изолированном коммунистическом лагере Яньань в 1942-43 гг. и затем навязанная всему Китаю в 1950-х гг. после захвата КПК власти в стране, “реформа мышления” представляла собой процесс использования индоктринации, общественного давления и террора для создания абсолютно покорных и легко управляемых людей. Явно основанная на новых теориях павловского психологического воздействия, завезенных из СССР и вызывавших восхищение Мао, она всегда следовала одному и тому же четкому методу: бесконечные многочасовые “занятия” и “дискуссии” в группах, где молчание было недопустимо; многократная “самокритика” и написание признаний, якобы для “выкладывания сердца на стол” во имя доброжелательного коллективного самосовершенствования и воспитания; поощрение соседей и коллег сообщать друг другу о якобы вредных недостатках, проступках и неправильных мыслях; разделение людей на “хорошие” и “плохие” классы или группы; изоляция одного объекта и “убеждение” бывших друзей и союзников присоединиться к одновременной атаке; массовые собрания, призванные подавить и унизить объект, превратить чистку в публичное зрелище и предметный урок; принудительные унизительные извинения, затем “великодушное” временное милосердие и искупление или отвержение и уничтожение человека в назидание другим; циклическое повторение с преследованием новых объектов.
При этом совершенно неважно, виновен или невиновен тот или иной человек, лоялен он или нелоялен. Не было и цели убедить или переубедить кого-либо. Это было не главное. Как записал один из очевидцев после того, как увидел, как безжалостно преследуют восторженно преданного КПК сотрудника: “Только позже я понял, что коммунисты были полностью осведомлены о его преданности их делу и в равной степени осознавали, что после “реформы” он был разочарован. Однако им удалось так запугать его, что отныне, независимо от того, что он думал, он говорил и действовал в каждый момент бодрствования именно так, как хотели коммунисты. В таком состоянии коммунисты чувствовали себя спокойнее и увереннее”.[9]
Этот метод воздействия сочетался с попыткой создать полностью контролируемую и полностью изменчивую информационную среду, в которой никто не мог быть уверен в том, что в каждый момент времени находится на истинном или “правильном” пути. Журналистика и литература подвергались жесткой цензуре, сатира была вне закона. Ученые и преподаватели вынуждены были постоянно пересматривать свои труды в соответствии с последними ортодоксальными взглядами, некоторые переписывали свои статьи и книги десятки раз или вовсе отказывались от них. Книги вообще были слишком стабильными источниками информации, чтобы быть разрешенными, и уничтожались вместе с огромными хранилищами исторических документов и знаний Китая в почти немыслимых масштабах. В Шанхае, например, только за два месяца 1951 г. было уничтожено 237 тонн книг. В Шаньтоу в мае 1953 г. для сжигания около 300 тыс. томов, представлявших собой “пережитки феодального прошлого”, потребовался гигантский костер, длившийся три дня. Лозунговые пропагандистские органы партии стали единственным допустимым источником информации, и вскоре все убедились, что в целях собственной безопасности им ничего не остается, как внимательно следить за ними, стараясь быть в курсе постоянно меняющейся “линии партии”.
Этот процесс тотальной идеологической индоктринации и контроля – в просторечии называемый также “синао” (洗脑, буквально: “промывать мозги”) – получил наибольшую известность во время поздней “культурной революции” в Китае, но на самом деле с самого начала был основой маоизма. Потому что это работало. Иностранные журналисты, которым было разрешено посетить Яньань в 1944 г., отмечали, что “воздух нервного напряжения” был постоянным и “удушающим”, и что, хотя “у большинства людей были очень серьезные лица и серьезные выражения”, никто, кроме высших руководителей, таких как Мао, никогда не шутил. “Если задать один и тот же вопрос двадцати или тридцати людям, от интеллигентов до рабочих, их ответы всегда более или менее одинаковы”, – удивлялся один из них. “Даже на вопросы о любви, похоже, существует точка зрения, которая была определена на собраниях”.[10] Со временем вся страна будет приведена к такому же состоянию удушающего конформизма.
Реформа мышления была, пожалуй, самым всеобъемлющим и драматичным процессом идеологической индоктринации из всех, которые когда-либо предпринимались. Кроме того, она была невероятно жестокой и дестабилизирующей: только за время первых кампаний Мао по реформированию и “исправлению” погибли миллионы людей. Поэтому реальность этого процесса, несомненно, привела бы в ужас Дьюи и его рафинированного прогрессивного интеллектуала. Но его фундаментальная цель была точно такой же, как и у него самого: настолько полностью разрушить старый образ жизни и мышления людей, чтобы отменить человеческую природу и построить на ее руинах нового человека и новое общество.[11] Эта тотализирующая утопия, столь неотъемлемая от коммунизма, является лишь высшим выражением неумолимого идеологического принуждения всего менеджеризма к “рациональному” переустройству и управлению всем миром и всем, что в нем есть, подобно машине.
Правда, метод грубой силы Мао был особенно грубым. В мягком менеджменте Запада усилия по созданию политически более безопасного, более правомыслящего “нового человека” использовались бы гораздо более тонкие, изощренные и щадящие методы промывания мозгов.
Терапевтическое состояние и внутренняя угроза
Германия и Япония капитулировали в 1945 году, но Вторая мировая война не закончилась. Управленческий либерализм вступил в свою первую глобальную идеологическую войну, и после прекращения стрельбы идеологическая борьба только начиналась. Европа и даже сама американская родина еще не были по-настоящему освобождены. Проблема заключалась в том, что фашизм продолжал таиться в умах повсюду. Для его искоренения требовалось не что иное, как психологическая перестройка целых народов.
По крайней мере, к такому выводу пришло политико-психоаналитическое движение, возглавляемое немецким фрейдо-марксистом Вильгельмом Райхом, который был убежден, что немцы из рабочего класса подвержены авторитаризму из-за своей нездоровой “подавленной” сексуальности и привязанности к традиционным гендерным ролям. Только освободив их от сексуальных ограничений (Райх придумал выражение “сексуальная революция”) и особенно навсегда разрушив жесткую структуру семьи и власть патриархального отца, т.е. фюрера, можно перевоспитать их и сделать их психику безопасной для либеральной демократии.
Как искусно объясняет Мэтью Кроуфорд, определив структуру общества не просто как политически или экономически несправедливую, но как психологически “больную”, Райх и его коллеги-фрейдо-марксисты разработали “политическую программу, которая потребует не что иное, как моральную революцию, работающую на самом глубоком уровне личности”. Подлинная и прочная марксистская революция должна быть осуществлена не бастующим простым человеком, а профессиональным психотерапевтом”.[12]
Во время войны идеи Райха получили значительное распространение в среде образованной либеральной управленческой элиты, составлявшей верхушку американских спецслужб, особенно в ОСС (предшественнике ЦРУ). Его фрейдистский политико-терапевтический проект был вскоре подхвачен союзной Верховной комиссией во главе с США в качестве основной части широкомасштабной “денацификации” оккупированной Германии, проводимой всесильным военным правительством. Кафедры психологии и социологии немецких университетов были укомплектованы вернувшимися из эмиграции учеными, зачастую отобранными из числа фрейдо-марксистов и близких по интеллекту критических теоретиков Франкфуртской школы, и превращены в инструмент массового перевоспитания немцев. Целью было не что иное, как “ментальное преобразование немецкого человека”, как предлагал лидер Франкфуртской школы Макс Хоркхаймер.
Этот проект был немедленно перенесен и в Америку. Еще до окончания войны правительство США начало финансировать и поддерживать новую волну психологических исследований, ориентируясь на европейских психоаналитиков-беженцев. Военное министерство, например, проводило исследования на демобилизованных солдатах, передавая их психоаналитикам, которые объясняли психологические срывы в бою не острым стрессом, а подавленностью консервативной семейной жизнью в детстве. Однако наибольшее влияние оказала работа Теодора Адорно из Франкфуртской школы, который разработал новую модель психологической оценки, получившую название “F-шкала” (F означает “фашистский”).
Шкала F-Scale, которую Адорно вытащил прямо из своей задницы, представляла собой анкету, в которой оценивалось согласие испытуемых со стандартными консервативными или правыми убеждениями и чертами (такими, как религиозность, вера в существование врожденных гендерных различий или общий “конвенционализм”, т.е. “соответствие традиционным общественным нормам и ценностям среднего класса”) и рассматривалось как свидетельство скрытых фашистских симпатий. Поскольку Адорно и его ученики были марксистами, то первоначально опрос проводился по оси “авторитаризм – революция” (оппозиция революции – “авторитаризм”), но в угоду американским спонсорам эта ось была переименована в ось “авторитаризм – демократия”. Впоследствии это “исследование” легло в основу книги “Авторитарная личность” (1950 г.), которая стала одним из самых влиятельных трудов по психологии, структурировав все направление психологических исследований в США на десятилетия вперед и став основой для убеждений левых контркультурных движений 1960-х годов (и не только). Но самое главное, она совершила впечатляющий подвиг политико-лингвистического джиу-джитсу: успешно переопределила общественное понимание фашизма – в действительности являющегося сущностью жесткого технократического управленческого режима, одержимого идеей использования слияния государства и корпораций для продвижения коллективной силы, однородной эффективности и научного прогресса сверху вниз – как синонима консервативного демократического популизма.
С этим новым определением доказательства фашистских симпатий могли быть обнаружены по всей территории США. Как рассказал Мартин Бергманн, психоаналитик армии США в 1943-1945 гг. в документальном фильме BBC 2002 г. “Век “Я”, оценочные туры правительственных психологов по средней Америке, проводившиеся с целью выяснить, “что происходит во всех этих маленьких городках” между цивилизованными побережьями, показали “гораздо более проблемную страну”, чем они могли себе представить, наполненную, очевидно, обычными семьями среднего класса, воспитывающими маленьких любителей фюрера.
Правительство США приняло меры, чтобы узнать у экспертов, как контролировать этого опасного внутреннего врага. Ответ, как рассказывает Бергманн, был таков: “Нужен человек, способный усвоить демократические ценности”. Новый либерально-демократический человек. “Психоанализ нес в себе обещание, что это можно сделать”, – вспоминает он. “Он открыл новые горизонты в отношении того, как можно изменить внутреннюю структуру человека, чтобы он стал более жизнеспособным, свободным сторонником и приверженцем демократии”.
Таким образом, правительство США, по словам Кроуфорда, “приняло антифашизм как более широкий мандат на моральные и социальные преобразования”. Внезапно “внутренняя жизнь американцев стала тем, чем нужно было управлять. Антифашизм в США должен был стать наукой социальной адаптации, работающей на глубоком уровне психики, по образцу параллельных усилий оккупационного правительства в Германии”.
В 1946 г. президент Трумэн объявил о кризисе психического здоровья в США, и Конгресс принял Национальный закон о психическом здоровье, наделив административный орган – Национальные институты здоровья – полномочиями по управлению психологическим состоянием американцев. Сотни новых психоаналитиков были обучены и направлены на создание “центров психологической помощи” в городах Америки. Терапевты, консультанты и социальные работники стали проникать во все сферы семейной, школьной и трудовой жизни.
Родилось терапевтическое государство. Отныне управление психической и эмоциональной жизнью американцев стало обязанностью государства и его “гражданского общества”, а не только индивида и его ближайшего социального окружения. Проект Дьюи по обучению распространился с ребенка на все взрослое население. Это, конечно, вполне вписывалось в основной императив управленческого режима, стремящегося постоянно вовлекать все новые и новые аспекты бытия в нежные объятия своей суетливой экспертизы. Но развитие терапевтического государства также позволило управленческой элите еще больше маргинализировать и даже патологизировать своих врагов из среднего американского класса. Теперь обыватели были не только отсталыми, но и психически сломленными и нестабильными. Только промыв свою психику и приняв все те же мысли, убеждения и либеральный образ жизни, что и профессиональные управленцы, они могли надеяться на излечение.
Как отметил Кристофер Лаш в 1991 г. в своей книге о прогрессизме “Истинное и единственное небо”, Адорно и его терапевтическое наследие, таким образом, “подменили медицинскую идиому политической и перенесли широкий круг спорных вопросов в клинику – на “научное” изучение в противовес философским и политическим дискуссиям. Эта процедура привела к тому, что отпала необходимость в обсуждении моральных и политических вопросов по существу”. Несогласие с прогрессивным управленческим проектом теперь можно объяснить только иррациональностью умалишенных. Как и при коммунизме в Китае и Советском Союзе, инакомыслие стало восприниматься как девиация.
А девиантность означала фашизм. Таким образом, в условиях, когда буржуазия явно рискует в любой момент взорваться гусиным шагом, можно было установить различия между друзьями и врагами: либо рационально выступать за прогрессивный менеджеризм (он же “либеральная демократия”), либо против него, а значит, автоматически быть иррациональным союзником авторитаризма и опасной угрозой для общества. “Антифашизм” теперь мог приобретать тот же смысл и функцию, что и при Мао: запятнать любого противника революционного проекта управленческого режима как человека, которого необходимо уничтожить на опережение, а не обсуждать с ним вопросы по сути.
Ведь если “весь постфашистский период – это период явной и настоящей опасности”, как утверждал Герберт Маркузе из Франкфуртской школы (в 1943-50 гг. непосредственно работавший в OSS) в своем эпохальном эссе “Репрессивная толерантность”, то американские традиции гражданских свобод и либерального нейтралитета вполне оправданно могут быть пересмотрены, чтобы отвести угрозу возрождения фашизма. Подлинно “освободительная толерантность” в этом случае предполагает “отказ от толерантности к регрессивным движениям и дискриминационную толерантность в пользу прогрессивных тенденций”. Прогресс и справедливость фактически предполагают “изъятие гражданских прав у тех, кто препятствует их реализации” (т.е. у “правых движений”). Между тем “истинное умиротворение [предфашистов] требует отмены толерантности до совершения поступка, на стадии коммуникации в слове, печати и изображении”. Такой цензурный режим, направленный на “разрушение тирании общественного мнения”, станет первым шагом на пути к созданию просвещенной “демократической образовательной диктатуры”, которой будут руководить те немногие, кто “научился мыслить рационально и автономно”. Хотя такая “крайняя приостановка права на свободу слова и свободу собраний” была бы “действительно оправдана только в случае крайней опасности для всего общества”, Маркузе, как и остальные представители интеллигенции, мог ссылаться на новое определение фашизма, данное его коллегой Адорно, чтобы утверждать, “что наше общество находится в такой чрезвычайной ситуации, и что это стало нормальным положением вещей”. Лишь несколько десятилетий спустя интеллектуальные потомки Маркузе получат шанс начать в полной мере использовать это исключительное положение во имя антифашизма.
Однако развитие терапевтического государства в то же время имело бы еще более глубокие долгосрочные последствия для основ американской демократии.
Инфантилизация и конец самоуправления
Противоположностью менеджеризма является самоуправление. Самоуправление (или “самовластие”) имеет два значения. По крайней мере, для американцев первое из них, которое приходит на ум, обычно является политическим: свобода “нас, народа” управлять собой, коллективно принимая собственные решения в качестве отдельного локализованного сообщества или нации о том, что должно происходить внутри этого сообщества или нации, не уступая суверенитета в принятии решений каким-либо далеким, иностранным или колониальным властям. Самоуправление в этом смысле было основным идеалом основания Соединенных Штатов Америки. Он не только послужил причиной Войны за независимость, в ходе которой был получен суверенитет от британского владычества, но и определил структуру созданной впоследствии федеративной республики, состоящей из независимо управляемых штатов.
Но самоуправление может распространяться и на уровень личности. Самоуправляющийся человек – это тот, кто хочет и может сам принимать решения о том, что думать и делать, и как это делать, а не автоматически обращаться ко внешним авторитетам, которые примут решение за него. Для этого он должен сначала выработать в себе определенное доверие к собственной способности и авторитету судить об истине, принимать решения и действовать, а также мужество принимать и брать на себя риск. Он должен верить в свое умение, способность и возможность добиваться своего в этом мире (в том числе и в сотрудничестве с другими людьми) и тем самым влиять на свою судьбу и судьбу своего общества. В психологическом смысле он обладает внутренним, а не внешним локусом контроля. Иными словами, он должен обладать определенной степенью уверенности в себе.
Однако для того, чтобы быть способным к этому, человек должен сначала проявить разум и подчинить более сиюминутные или низменные побуждения, желания и эмоции достижению более высоких и долгосрочных целей. Он должен уметь терпеть боль от отложенного удовлетворения, боль от физического труда, необходимого для того, чтобы что-то построить, разочарования и травмы при освоении нового навыка, раздражение и путаницу при формировании и поддержании сложных человеческих отношений, эмоциональный дискомфорт от того, что приходится слышать или говорить трудные, но необходимые истины, и т.д. Не будучи способным к такого рода самоограничениям, самодисциплине и самообладанию, человек фактически не способен действовать с подлинной самостоятельностью. Напротив, если он не управляет своими страстями, то, согласно одному из наиболее древних и последовательных выводов классической философии, он находится в рабстве у них. Поэтому истинная свобода в классическом понимании – это не свобода человека иметь или делать все, что он хочет, когда ему этого захочется, а свобода от деспотизма желаний, который делает невозможным суверенитет разума и морали. Таким образом, в реальном смысле самоуправление требует прежде всего управления самим собой. Именно поэтому саморегуляция исторически всегда считалась истинным признаком зрелости – готовности к конструктивному участию в общественной жизни, а отсутствие таковой – верным признаком продолжающегося ребячества.
Как внизу, так и вверху: народ, неспособный к личному самоуправлению, будет неспособен к самоорганизации и политическому самоуправлению. Вместо этого они будут вечно нуждаться в политической матери или отце, которые будут править ими, обеспечивать их и принимать решения о том, что для них лучше. Только оттачивая свои собственные способности к добродетели самоуправления, они смогут управлять собой. И как наверху, так и внизу: народ, полностью управляемый и опекаемый сверху, словно дети, не будет иметь возможности развить истинную свободу личного и общественного самоуправления, а останется навсегда зависимым, манипулируемым и порабощенным.
Для древних греков и римлян высшей концепцией свободы была жизнь в составе самоуправляемого государства, состоящего из самоуправляемых индивидов. Затем эта старая идея была воспринята и развита Джоном Локком и, в частности, основателями Америки. Американцы стали вызывать восхищение как замечательное воплощение самоуправляющегося народа именно благодаря неразрывному сочетанию самодостаточности, коллективной самоорганизации и поддерживаемой этими достоинствами системе политического самоуправления.
Возникновение менеджеризма и терапевтического государства изменило ситуацию. Даже самые сплоченные самоорганизованные сообщества – “маленькие взводы” Эдмунда Берка – начиная с семьи, неуклонно разрушались под воздействием управленческого режима и его неумолимой внутренней колонизации и централизации. Полномочия и ответственность за принятие решений переходили от индивидов, семей и сообществ к удаленным бюрократическим структурам и уполномоченным экспертам, а действия подчинялись непостижимой чащобе абстрактных правил и предписаний. Тем временем терапевтическое государство быстро интегрировалось во все секторы управленческой системы, поскольку современная терапевтическая концепция “Я” – некое невыразимое внутреннее божество, которое необходимо постоянно посещать, сопровождать, насыщать и поклоняться – органично вписалась в догматы управленческой идеологии и материальные императивы управленческого капитализма.
Как отмечает Филипп Рифф в книге “Триумф терапевта” (1966), поощрение консюмеризма через постоянное превращение желаний в потребности помогло убедить большинство в том, что комфорт и развлечения для себя и своих желаний являются “высшим благом”. При этом терапевтическое государство презирало любое подавление “я” (т.е. самоконтроль) как нечто вредное и идеологически опасное. Таким образом, управленческий либерализм работал рука об руку с рынком, постепенно уничтожая нормы и традиции, побуждающие к самоограничению. Свобода и раскрепощенность сводились к удовольствиям, доступным для потребления благодаря тому, что Рифф назвал “вечной промежуточной этикой освобождения” от социальной дисциплины и моральных запретов. Для дальнейшего освобождения необходимо находить и разрушать все новые и новые ограничения.
Но, как отмечал Лаш, “атрофия неформальных механизмов контроля неудержимо ведет к расширению бюрократического контроля”. Чем меньше люди готовы и способны к индивидуальному и коллективному самоуправлению, тем больше формальных правил и систем внешней власти будут контролировать их желания и поведение. Большая моральная и социальная анархия приводит к усилению, а не ослаблению государственного контроля.
Поэтому контркультурная революция 1960-х годов с ее “антиавторитарным” стремлением “освободить” себя от ограничений как нельзя лучше отвечала интересам управленческого режима. Она стремительно разрушила традиционные неформальные узы стабильных, устойчивых сообществ, которые веками помогали укрывать индивидов, и разорвала моральные нормы, которые помогали им структурировать и дисциплинировать свою жизнь без помощи государства. Освобожденный таким образом, самовыражающийся индивид становился королем по имени, но на деле оставался гораздо более изолированным, одиноким и уязвимым. Такой атомизированный индивид оказался гораздо более легкой добычей для массовых корпораций, которые набросились на него, чтобы предложить всевозможные готовые к покупке заменители того, что когда-то было общественным достоянием, и для государства, которое по первому требованию стало гарантировать суверенитет этих освобожденных “я” и защищать их от их собственного выбора. Таким образом, способность к самоуправлению деградировала, и, побуждаемые считать себя зависимыми от государства в вопросах свободы, запрос общества на управление со стороны высшей власти только возрастал.
Неудивительно, что в 1960-е годы в Америке произошел мощный взрыв бюрократического администрирования, когда государство с радостью взялось за ряд грандиозных проектов социального управления, включая “Войну с бедностью”, “Великое общество” и закон о гражданских правах. Эти проекты не только ускорили рост административного аппарата, но и стали основой для выхода управленческой системы за пределы государства, значительно повысив управленческую роль некоммерческих организаций и заставив создать новшества наподобие современного отдела кадров, который сегодня есть практически в каждой частной компании в качестве органа управления управленческим государством.
Но даже эти утопические проекты, возможно, были не столь значимы для распространения менеджеризма, как более глубокая психополитическая трансформация американцев, которую они отражали: из людей, яростно ценящих свою самостоятельность и независимость, они превратились в людей, готовых променять любую существенную свободу на безопасность. Де-факто был заключен новый общественный договор: люди должны были подчиняться, чтобы ими управляли, а взамен управленческий режим обеспечивал им все больший комфорт и безопасность, причем не только физическую, но и психологическую.
Сегодня Америка в этом отношении практически не одинока. Когда вирус COVID-19 только появился, китайский управленческий режим немедленно ввел драконовские меры сдерживания во имя общественной безопасности, заперев целые города в своих домах, закрыв целые сектора экономики, разделив семьи и отправив их в карантинные лагеря. Эта саморазрушительная национальная политика продолжалась в течение трех лет после того, как с научной точки зрения стало ясно, что вирус протекает в относительно легкой форме и не представляет опасности для здоровья людей, даже близко не требующей такого уровня реагирования. Но когда вирус начал распространяться по всему миру, управляющие государства Запада стали смотреть на Китай не с тревогой, а с восхищением. При этом они изначально предполагали, что жители Запада никогда не согласятся с таким уровнем управленческого контроля со стороны своих режимов. Как признался в интервью 2020 г. профессор Нил Фергюсон, руководивший ранними британскими мерами по борьбе с COVID, бюрократы от здравоохранения хотели перенять “инновационное вмешательство” Китая, но поначалу отвергали его как нечто такое, чего западный народ просто не вынесет. Но они ошибались: “Это коммунистическое однопартийное государство, – говорили мы. Мы думали, что в Европе такое не пройдет… А потом это сделала Италия. И мы поняли, что можем”, – злорадствовал Фергюсон. Большинство британцев действительно стремилось (и до сих пор стремится) к безопасности управляемой жизни под замком. Таким образом, “представление о том, что возможно в плане контроля, на Западе изменилось довольно сильно”, – пояснил Фергюсон. Вскоре страны западного мира приняли и навязали китайскую модель.
Это не должно удивлять. Сателлитизм абсолютно типичен для всех управленческих обществ, мягких или жестких, в Сакраменто или Шанхае. На самом верху управленческая элита, естественно, одержима идеей тотального контроля – управлять обществом, как машиной, – и пресекать любую непредсказуемость, несанкционированную деятельность или волевое сопротивление. Для профессионального управленческого середнячка сомнение или отклонение от правил и процедур бюрократической машины не столько немыслимо, сколько невообразимо аморально и неклассово: для благочестивого аппаратчика подчинение машине и ее экспертным моделям – основа добропорядочности и личного продвижения, а самостоятельное принятие решений сопряжено с риском; “компьютер сказал “нет” – это практически отступление от священного закона”.[13] Социальная атомизация, пустой релятивистский нигилизм и выученная беспомощность, порождаемые менеджеризмом, снизу культивируют в массах постоянное состояние тревоги; пытаясь снять эту тревогу, многие из них затем сами требуют все большего и большего управленческого контроля над жизнью сверху. Возникает цикл созависимости, который ускоряется по мере того, как управленческий режим обнаруживает, что он может постоянно создавать новые объекты страха, от которых щедро защищает общество. Режим становится пожирающей матерью, проецирующей слабость на своих детей, чтобы удержать их в привязанности и подчинении.
Новый человек”, о котором мечтает менеджеризм, – это не человек, а младенец: зависимый и неспособный к самоуправлению, нуждающийся и потребляющий, “чистый лист”, податливый и внушаемый, любящий и доверяющий тем, кого он считает всемогущими и сострадательными, – идеальный субъект управления. Сохранение такого состояния незрелости делает возможным исторически новый, всепоглощающий тип режима.
Безмерная и опекающая власть
Когда Алексис де Токвиль писал о своих впечатлениях от путешествия по Америке в 1830-х годах, он затруднялся назвать то мрачное будущее, которое, по его мнению, должно было угрожать молодой стране, поскольку “вид угнетения, которым угрожают демократические нации, не похож ни на что, когда-либо существовавшее в мире”. Он “тщетно искал выражение, которое бы точно передало всю идею”, поскольку “старые слова “деспотизм” и “тирания” не подходят” для ее описания, писал он. В своем видении он увидел “бесчисленное множество людей, все равны и одинаковы”, и все они “непрерывно стремятся к получению мелких и ничтожных удовольствий, которыми они насыщают свою жизнь”. И “каждый из них, живя отдельно, как бы чужд судьбе всех остальных”, причем каждый человек существует “только в себе и только для себя”. В таком атомизированном и дезорганизованном состоянии, даже “если у него еще остались родственники, можно сказать, что он, во всяком случае, потерял свою страну”, ибо:
Над родом людей стоит огромная и опекающая сила, которая берет на себя обеспечение их благ и наблюдение за их судьбой. Власть эта абсолютна, мелочна, регулярна, предусмотрительна и мягка. Она была бы похожа на власть родительскую, если бы, подобно этой власти, ставила своей целью подготовить человека к взрослой жизни; но она, напротив, стремится держать его в вечном детстве: она довольствуется тем, что народ радуется, если он не думает ни о чем другом, кроме радости. Для их счастья правительство охотно трудится, но оно предпочитает быть единственным агентом и единственным арбитром этого счастья; оно обеспечивает их безопасность, предвидит и обеспечивает их нужды, облегчает их удовольствия, управляет их главными заботами, направляет их промышленность, регулирует передачу собственности и делит их наследство: что же остается, как избавить их от всех забот, связанных с размышлениями, и от всех хлопот, связанных с жизнью?
Таким образом, он с каждым днем делает менее полезным и менее частым использование свободной воли человека, все более ограничивает ее и постепенно лишает человека возможности пользоваться собой. Принцип равенства подготовил человека к этим вещам, он предрасположил его к тому, чтобы терпеть их, а зачастую и смотреть на них как на благо.
Последовательно взяв в свою мощную хватку каждого члена общества и сформировав его по своему усмотрению, верховная власть затем простирает свою руку над всем обществом. Она покрывает поверхность общества сетью мелких сложных правил, мельчайших и единообразных, через которые не могут пробиться самые оригинальные умы и самые энергичные характеры, чтобы возвыситься над толпой. Воля человека не подавляется, а смягчается, сгибается, направляется; человека редко принуждают к действию, но постоянно удерживают от него. Такая власть не уничтожает, но препятствует существованию; она не тиранит, но сжимает, подавляет, гасит и одурманивает народ, пока каждый народ не превращается в стадо робких и трудолюбивых животных, пастухом которых является правительство.
То, на что Токвиль в свое время дал уникальное представление, – это характер мягкого управленческого режима, первые семена которого уже были посажены в Америке. Вместо того чтобы жестоко и террористически принуждать население к подчинению, как это делает жесткий режим, этой “мягкой” (но “абсолютной”) власти будет гораздо легче его усыпить, соблазнить и пропагандировать. Но желаемый конечный результат будет тот же: население будет деморализовано и готово согласиться на управление всем, что находится под небесами.
И тем не менее, чем успешнее удавалось держать общество в “вечном детстве”, тем больше режим, не будучи настоящим любящим родителем, относился к нему лишь с чистым презрением и полным пренебрежением. Не все воспринимают это вежливо. Значительная часть наиболее своевольных детей по-прежнему не желает вести себя прилично и продолжает бунтовать против своих учителей. Несмотря на все усилия, демос до сих пор не стал безопасным для демократии. Что же делать? Силовое воздействие на таких “непримиримых”, несомненно, представляется все более соблазнительным, равно как и все более жесткие формы воздействия и контроля. Поэтому замена некоторых приемов управленческого ремесла на более жесткие и жестокие может показаться более необходимой и естественной эволюцией нашего управленческого порядка.
“Партия, правительство, военные, гражданские, ученые; восток, запад, юг, север, центр – всем руководит партия”. – Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин
У управленческой технократии есть большая проблема: она на самом деле не работает. Построить Вавилонскую башню не получится, потому что не все можно полностью контролировать с помощью человеческой смекалки. Чем больше и масштабнее становится система управления, тем сложнее она становится. Чем сложнее она становится, тем в геометрической прогрессии сложнее ее контролировать. Энтропия и дисфункция неумолимо проникают в систему, решение одной проблемы порождает множество новых, неожиданных проблем, башня начинает шататься.
Естественно, что система с возрастающим рвением пытается замазать все эти трещины новыми уровнями управления, которые, конечно же, только усложняют систему и со временем начинают отдалять ее от реальности. Люди, живущие в такой системе, имеют привычку со временем замечать противоречия между настойчивыми официальными заявлениями о стабильности и тем, что они чувствуют, как башня качается под ногами; со временем этот разрыв в реальности порождает извращенное ощущение абсурда, свойственное жизни в таких режимах. Распространение этого абсурда ничуть не смущает управленческий режим. Однако неизбежно возникает затяжной кризис легитимности. Разрешить этот кризис он не может, так как он не разрешается путем применения большего количества менеджмента. Единственная претензия режима на легитимность – это особый опыт в создании бесконечного прогресса, включающего все большую материальную эффективность и все более полное удовлетворение желаний. Но желания бесконечны, а сам управленческий подход становится неэффективным даже для эффективности. Единственная реальная цель и метод менеджеризма – расширение управления, а само управление не дает ничего, кроме дальнейшего искусственного усложнения. Поэтому в какой-то момент корыстное расширение управленческой бюрократии обгоняет любые достижения в эффективности организации, полученные в результате применения управленческих технологий.
Тем не менее, на возникновение такой нестабильности управленческий режим способен ответить только одним – удвоить усилия: усилить контроль сверху, увеличить количество уровней управления, настойчиво претендовать на экспертные знания, избавить людей “от всех забот, связанных с размышлениями, и от всех хлопот, связанных с жизнью”, устранить любое видимое сопротивление утопии. Это можно назвать прогрессивной и модернизационной реформой. Подлинно эффективная реформа – сокращение централизации и управления, ослабление универсализма, освобождение и передача контроля для дифференциации и адаптации к реальности на местах, а также общее смирение – конечно, невозможна, поскольку это означает движение “назад”, признание ошибочности и ограниченности управленческой деятельности.
Однако это вовсе не означает, что управленческие режимы не способны к сложной адаптации для эффективного (пусть и временного) подавления нестабильности или что они обязательно недолговечны. Предполагать, что тот или иной режим слаб или находится на грани краха, было бы ошибкой: массовый управленческий режим – явление в основном современное, и пока только один из них (СССР) рухнул без военного вмешательства. Поэтому мы не знаем, как долго может просуществовать особенно умная управленческая система, даже если знаем, что это не навсегда. Что мы можем предположить, так это то, что любой режим будет действовать автоматически, защищая себя и свои интересы от нарастающих угроз. Скорее всего, он будет эволюционировать и внедрять новые методы, как это неоднократно происходило в прошлом. Новые средства повседневного подавления, или то, что режим КПК любит называть “поддержанием стабильности”, будут быстро найдены и опробованы.
Сегодня этот императив поддержания стабильности обусловливает быструю и взаимопродуктивную конвергенцию жестких и мягких управленческих режимов в мире, причем жесткие становятся более мягкими (то есть более тонкими и хитрыми, но не менее жестокими), а мягкие – более жесткими (более силовыми, принудительными и бессовестными).
Перманентная революция
Первый шаг к стабильности – это разрушение. Для управленческого режима стабильность, конечно же, означает беспрекословное подчинение общества управленческой власти. Препятствием на пути такой полной управленческой власти, как всегда, являются все те сферы власти, которые могли бы конкурировать с режимом, т.е. любые оставшиеся стабильные институты, сообщества, независимые экономические сети, религии, нормы, традиции и образ жизни, которые делают возможным и поощряют самоуправление – или, по крайней мере, организацию и принятие решений вне и независимо от управленческого класса. Эти препятствия, эти непокорные остатки старого порядка стоят на пути перемен, консолидации, реконструкции, прогресса… поэтому они должны уйти, они должны быть разбиты!
Нивелирование любых источников оппозиционной власти – постоянный императив любого управленческого режима. Как объяснял французский политический философ Бертран де Жувенель в своей бессмертной работе о становлении управленческих национальных государств “О власти: естественная история ее роста” (1948), власть (режим) по своей природе не может не стремиться неустанно разрушать все разделения и барьеры на своем пути и собирать в себе все другие возможные узлы и источники власти, либо уничтожать их. “Всякое повеление, кроме своего собственного, вот что раздражает Власть”, – писал он. Между тем “всякая [человеческая производительная] энергия, где бы она ни была найдена, вот что питает ее”. Режим “побуждается” разрывать сложившиеся и независимые сообщества, чтобы потреблять их силу, “с такой же естественной тенденцией, как та, что заставляет медведя в поисках меда разрывать ячейки улья”.

На рисунке: управленческое состояние обнаруживает ваше процветающее независимое сообщество.
Это означает, что консервативное сохранение старых обычаев, форм и правовых структур всегда абсолютно не соответствует целям и природе управленческого режима. Хотя он и говорит о некоем неизменном и безупречном утопическом будущем, он продвигается и растет в силе не за счет порядка и сохранения, а за счет постоянного перетряхивания ситуации и разбивания не одного яйца. Адаптируя Маркса, можно сказать, что управленческий класс либо революционный, либо никакой. Действительно, управленческий режим по своей сути соответствует программе Гегеля и Мао о “непрерывной” или “перманентной революции”.
Управленческая революция не была однократным событием, произошедшим только один раз в истории; напротив, это процесс, который происходил и происходит неоднократно, причем относительно четко выраженными волнами. Более того, в Америке эти волны, похоже, повторяются достаточно регулярно: примерно раз в 20-25 лет, то есть примерно раз в поколение. За эпохой прогрессизма Вильсона в 1910-х годах последовала эпоха “Нового курса” Рузвельта и мобилизации на Вторую мировую войну, начавшаяся в 30-х годах, которая, в свою очередь, сменилась эпохой “Великого общества” и “Гражданских прав” в 60-х годах. Затем наступила неолиберальная эпоха Рейгана-Клинтона, начавшаяся в 80-е годы, которая – и боюсь, что многим консерваторам это будет нелегко слышать – достигла блестящего, хотя и более тонкого революционного успеха, используя приватизацию для экономической и социальной дестабилизации и разрушения уцелевших сплоченных самоуправляемых сообществ и институтов в обмен лишь на иллюзорное сокращение управленческой государственной власти (полученное путем передачи этой власти управленческим корпорациям). За каждым из этих периодов революции следовал более тихий, иллюзорный “консервативный” период консолидации, лишь для того, чтобы через несколько десятилетий вновь разразилась революция.
Это подводит нас к пятой, самой масштабной волне управленческой революции, которую мы переживаем сегодня, в 2010-20-е годы, – Великому пробуждению.
“Вокизм” – это идеология/радикальный религиозный культ, основанный на марксизме, который стремится установить рай на земле (утопию всеобщей “социальной справедливости”) путем одновременного и полного освобождения всех “угнетенных”. Это должно быть достигнуто путем создания Нового Бодрствующего Человека (они/они), пробужденного в процессе перевоспитания в новое сознание своего угнетения, последующего захвата и перераспределения всей власти у групп “угнетателей”, а также сметания или инверсии всех установленных иерархий, моральных норм и других “социальных конструкций” прошлого, накладывающих какие-либо ограничения на бесконечное самосозидание личности и более широкой реальности. Она абсолютно революционна по своей сути.
Поэтому на первый взгляд может показаться странным выбор идеологии, которую с энтузиазмом и одновременно приняли и продвигали все институты истеблишмента, как они это быстро сделали после 2016 года. Разве государству не нужен порядок и контроль, а не революция? Разве корпорациям не нужна процветающая среда для свободного рыночного капитализма, а не марксистское недовольство и уличное насилие? Разве ученые не хотят сохранить спокойствие в своей башне из слоновой кости, чтобы добиваться истины (хаха)? Разве элита в целом не стремится сохранить статус-кво своего правления, а не выступает за его свержение? Несомненно, многих случайных наблюдателей идея революционного режима может смутить.[14]
Но это не должно быть такой уж загадкой. Вокизм не представляет никакой угрозы основам управленческого режима – скорее наоборот. Прежде всего, это радикальное, но прямолинейное продолжение мягкой управленческой идеологии. В ней сохраняются и развиваются все те же основные постулаты (помните такие?): сциентизм, утопизм, мелиоризм, либерализм, гедонизм, космополитизм, дематериализация (к ним, пожалуй, можно добавить еще и сафетизм, о котором говорилось выше). Во-вторых, его цель – породить новое виктимное сознание и реконструировать природу человека – полностью соответствует целям и методам терапевтического государства.
Самое главное, что вокизм предоставляет режиму идеальную возможность реализовать революционную диалектику. Что это такое? Не пытаясь объяснить все детали диалектического материализма, скажем лишь, что, подобно Гегелю, Мао считал, что революция никогда не должна заканчиваться, поскольку весь прогресс (к новому социалистическому человеку и коммунизму, но главным образом к большей власти) является продуктом преобразований, производимых борьбой между противоборствующими силами в обществе. Если бы не было борьбы, то не было бы и прогресса, поскольку всякий прогресс порождается одним и тем же диалектическим процессом: единство -> разъединение -> единство.
Другими словами, через хаос беспорядка создается новый, более прочный порядок; вы ломаете вещи, чтобы заменить их новыми вещами по своему усмотрению. Или, как выразился Мао в письме своей жене в 1966 г., когда он решил начать разрушительную Культурную революцию в Китае (в основном для того, чтобы укрепить свою слабеющую власть), его метод заключался в том, чтобы вызвать “великий беспорядок Поднебесной” с целью создания “великого порядка Поднебесной”. Только в условиях хаоса и массовых беспорядков он мог получить свободу действий, осуществить радикальные перемены, устранить конкурентов, перестроить отношения и захватить контроль над новыми центрами власти так, как раньше это было невозможно. (Отсюда и его высказывание в разгар кровавого безумия: “Все под небом в полном хаосе, ситуация превосходная”).
Эта диалектика может работать на любом уровне. Допустим, вы политический бюрократ и хотите захватить порцию контроля над отделом полиции, чтобы использовать его в качестве своего личного отряда головорезов. Раньше это было бы довольно сложно, поскольку общественность будет жаловаться, самоуправление – это уже сложившийся институт с правилами, и оно уже заполнено опытными людьми, преданными существующей иерархии, которые едины в том, что не любят и не доверяют тебе, маленькому психопату. Но есть способ: вы находите причину, по которой департамент не финансируется, вынуждая большинство неприятных вам людей уйти и найти другую работу во время тяжелого финансового кризиса; теперь улицы переполнены преступностью и под небом царит хаос, поэтому общественность гневно требует вновь финансировать полицию и обеспечить закон и порядок; вы милостиво соглашаетесь и финансируете департамент – более того, вы, защитник народа, удваиваете его бюджет, нанимая всех выбранных вами головорезов, причем на щедрые зарплаты. И вот получите и распишитесь! Департамент снова стал большим, чем прежде, но теперь уже верным вашему покровительству. Через разобщенность возникло новое единство.
В общем и целом, установление нового, более централизованного и жесткого порядка – это и есть цель любой революции. Железная тирания Мао, Сталина или Наполеона – это не несчастный случай неудачной революции, а ее суть.
Цель революции Woke – не “деконструкция”, не беззаконие и социальный хаос навсегда, а насильственное создание нового, гораздо более тоталитарного порядка. Управленческий режим быстро сообразил, что эта идеология, найденная им в убогом академическом уголке (ее конкретное происхождение не имеет особого значения), представляет собой идеальный инструмент для уничтожения своих врагов и расширения своей власти и контроля, а потому оппортунистически подхватил ее и взял на вооружение в качестве молота, которым можно все крушить.
Вокизм принят управленческим режимом, без которого он никуда бы не ушел, поскольку он напрямую отвечает собственным интересам всех управленческих секторов. Для управленческой интеллигенции он предлагает совершенно новые области политики, в которых все должны подчиняться их закодированным посланиям и специальным знаниям. Для управленческих СМИ – новая цивилизационная миссия, заключающаяся в постоянном информировании масс о том, насколько они отсталы, и гиперопеки их на каждом шагу. Для управленческой филантропии – новые бесконечные крестовые походы для облегчения бесконечных притеснений. Для управленческих корпораций – новые рубежи гедонистического раскрепощения, с целым рядом новых привычек, которые можно продавать как потребительские нужды (“гендерно-утверждающий уход” – это очень выгодно! И самое главное, для управленческого государства – это разросшаяся часть населения, которая с каждой новой экспансивной претензией на инфантильную виктимность постоянно просит технократическое государство и его доверенных лиц вмешаться, чтобы обеспечить “справедливость” и управлять чрезвычайными ситуациями, связанными с их индивидуальным правом на “безопасность” в любых обстоятельствах, в любой сфере жизни и в любом человеческом взаимодействии, от рабочего места, романтических и семейных отношений, вплоть до их эмоционального состояния и каждого слова, произнесенного или прочитанного в Интернете.
Есть еще “черные категории”, реакционная буржуазия, фашисты из рабочего и среднего класса, которых теперь тоже можно клеймить как белых супремасистов и прочие “фобии”, а затем “справедливо” избивать, мучить, изолировать, наблюдать и лишать собственности за их прискорбный фанатизм и ненависть. О, как ожила старая, изрядно надоевшая классовая борьба, чтобы подарить новые вкусные моральные наслаждения!
Режим рассматривает эту идеологию как удобный новый источник легитимности в момент, когда эта легитимность оказалась под угрозой: теперь каждый сектор режима необходим для обеспечения “справедливости” (равенства результатов) между людьми во всех отношениях (социальная справедливость) и для защиты их от зла (оппозиции социальной справедливости, т.е. режима). Более того, это морально оправдывает полный отказ от официального институционального нейтралитета по отношению к оппозиции режима и ее политическим правам, видимость которого ранее хотя бы требовала вытесненная философия либерализма. Да, это злит оппозицию, но оппозиция слаба и робка, и ее действия всегда можно переиначить в соответствии с выбранным нарративом и использовать для дальнейшей изоляции. В сочетании с возможностью продвигать свою основную революционную идею эти преимущества сделали вокизм потенциально самой полезной концептуальной эволюцией из всех, когда-либо принятых западным менеджеризмом.
И структура нового единства, которое Woke managerialism намерен создать в случае успеха на этом этапе революции, вполне ясна. Ее контуры очевидны, например, в предложении одного из самых известных американских теоретиков Woke Ибрама X. Кенди принять “антирасистскую конституционную поправку”, которая сделает неконституционными “расовое неравенство” и “расистские идеи государственных чиновников”, “создаст и будет постоянно финансировать Департамент по борьбе с расизмом (DOA), состоящий из формально подготовленных экспертов по расизму и не имеющий политических назначений”. Этот департамент будет “отвечать за предварительную проверку всей государственной политики на местном, государственном и федеральном уровнях, чтобы гарантировать, что она не приведет к расовому неравенству, контролировать эту политику, расследовать частную расистскую политику, когда расовое неравенство проявляется, и контролировать государственных служащих на предмет выражения расистских идей”. Министерство обороны будет наделено дисциплинарным инструментарием, который можно будет использовать в отношении политиков и государственных служащих, не желающих добровольно изменить свою расистскую политику и идеи”. Другими словами: новый порядок тотального управленческого контроля, контролирующий даже наши самые интимные дела и самые частные заблуждения, под надзором постоянной неизбираемой и неподотчетной надстройки “формально подготовленных экспертов”.
Неужели любое западное правительство пойдет на такой шаг? Конечно, пойдет, если сможет, ведь волк изголодался по ягнятине. На самом деле, поскольку “вокизм” быстро распространился за пределы Америки, другие управленческие режимы Запада, такие как Ирландия (и весь Евросоюз), уже спешат опередить США и начать кодифицировать в законах столь же далеко идущие планы.
Это не должно нас удивлять, просто таков тезис менеджеризма – даже мягкого, либерального менеджеризма. Как и де Токвиль, де Жувенель предвидел, в каком направлении движется жизнь в условиях менеджеризма:
К чему все это приведет, эта бесконечная война, которую ведет Власть против других властей, подбрасываемых обществом? Перестанут ли когда-нибудь смыкаться челюсти великого удава, сжимающего человеческие энергии, на всех, кто в свою очередь использует эти энергии по назначению? Чем это закончится? Уничтожением всех других команд ради блага одной – государственной. В абсолютной свободе каждого человека от всякой семейной и общественной власти, свободе, ценой которой является полное подчинение государству. В полном равенстве всех граждан между собой, которое оплачивается их равным унижением перед властью их абсолютного господина – государства. В исчезновении всякого ограничения, которое не исходит от государства, и в отрицании всякого превосходства, которое не утверждается государством. Одним словом, все заканчивается атомизацией общества, разрывом всех частных связей, связывающих человека с человеком, единственной связью которых теперь является их общая связь с государством. Крайности индивидуализма и социализма встречаются: так было предопределено.
Хотя хозяин наших атомизированных масс не будет полностью распознаваться только как “государство”, его предупреждение, тем не менее, справедливо: конечной точкой революционного голода менеджериализма по тотальному контролю обязательно станет тоталитаризм: все в рамках режима, ничего вне режима, ничего против режима.
Экстремальный центр, “обезопасивание” всего на свете и правовое государство
Итак, столкнувшись с кризисом легитимности, управленческие элиты по всему Западу во имя сопротивления “фашизму”, спасения “демократии”, достижения всеобщей безопасности и социальной справедливости начали применять революционные методы для превращения своих режимов в еще более чудовищные гоббсовские чудовища подчинения и контроля. Для объяснения этого не требуется никакого конкретного заговора, дело только в природе менеджеризма.
К счастью, этот проект еще не полностью удался. Он столкнулся с неожиданным демократическим сопротивлением со стороны “популизма” среднего класса, что, по крайней мере, несколько замедлило его трансформационный марш. Он также пока не может открыто действовать вне рамок старого демократического порядка и той томительной моральной легитимности, которую все еще обеспечивает этот заплесневелый фасад. Режим должен продолжать продвигаться в основном через существующие механизмы правовой и гражданской власти. Отсюда и перевернутый мир нынешнего переходного периода, в котором новый порядок постоянно и громко заявляет, что его задача – защищать старый порядок, хотя по сути он в открытую его разрушает.
Этому способствует тот факт, что, будучи по сути нигилистическим, современный менеджеризм трудно уложить в традиционный лево-правый политический спектр, по крайней мере, в том виде, в каком его понимает большинство людей.[15] Он, безусловно, левый в том смысле, что прогрессистский и революционный, а значит, окончательно антиконсервативный. Но он не является эгалитарным или гуманитарным, который, по мнению многих, должен олицетворять левый режим. Хотя на уровне риторики режим и трубит об этих принципах, на деле его технократическая концепция правления носит ярко выраженный олигархический характер, объединяющий немногих против многих. Он, конечно, не является антиимперским или антивоенным. Не является он и антикапиталистическим, по крайней мере, в том смысле, что поощряет рыночную активность и способствует узким кругом лиц накоплению огромных частных богатств. Но и либертарианским его тоже не назовешь: самый надежный путь к богатству – это патронажные отношения с государством, и каким бы богатым и независимым ни был магнат или корпорация, они все равно остаются опутанными щупальцами административного государства и более широкого бюрократического управленческого режима. И, презирая человеческую добродетель, совершенство и самостоятельность, он решительно отвергает иерархические, аристократические добродетели права в пользу инфантильного, легко управляемого радикального индивидуализма, откатываясь тем самым к коллективизму. В итоге менеджеризм сочетает в себе, по словам де Жувенеля, “крайности индивидуализма и социализма”. Это позволяет запутать и замаскировать его радикальную сущность и последовательно прикрываться мерцающим плащом разумной, умеренной, представительной середины, будь то “левый центр” или “правый центр”. На самом же деле она ничем из этого не является, кроме центра власти.
Таким образом, оксюморон “крайний центр” является потенциально полезным описательным термином. Этот термин обозначает концентрацию власти в руках единого “истеблишмента” или правящего класса, объединенного общими интересами (независимо от того, сколько формальных политических партий в него входит) и представляющего себя как беспристрастный голос умеренности и разума, противостоящий “крайностям” (любой оппозиции вне этого блока). В такой ситуации политика становится не борьбой двух или более партий или фракций, спорящих о том, какую политику правительства проводить, а защитой внутреннего от внешнего, центра от периферии.[16] Центр определяет границы “нормальной”, “легитимной” или приемлемой политики и мнений, в то время как периферия и ее взгляды рисуются как опасные, нелегитимные и неприемлемые для рассмотрения или компромисса (независимо от того, насколько они могут быть поддержаны населением). Идеологическая ясность и постоянство здесь не имеют особого значения; единственная объединяющая цель блока центра – защитить свою комфортную монополию принятия решений и статуса путем исключения или подчинения всех, кто может бросить вызов его коллективным интересам.
Таким образом, центр, превративший политику в психодраму своей цивилизованной борьбы с окружающими варварами, становится готов к радикальным действиям для поддержания стабильности своего контроля, независимо от того, сколько он при этом нарушает и разрушает. Это включает в себя активные антидемократические, внеконституционные или иные нарушающие нормы действия, которые оправдываются необходимостью защиты норм (читай: норм контроля над обществом). Подобно организму, страдающему аутоиммунным расстройством, со временем центр становится экстремальным в своем самозащитном поведении, потенциально подрывая собственную легитимность и стабильность общества. Это, конечно, только усиливает паранойю по поводу необходимости жесткого контроля над властью.[17]
Эта паранойя порождает чувство осады, а также петлю обратной связи, которая приводит к неуклонному росту подозрительности и необходимости усиления безопасности (это прекрасно согласуется с процессами бюрократизации и сатисфакции, о которых говорилось выше). Вскоре все становится вопросом безопасности. А как только что-то становится вопросом безопасности, оно становится вопросом экзистенциальной необходимости, а значит, пригодным для исключения из установленных процессов и правил коллективного принятия решений и подотчетности (демократической или иной), поскольку в чрезвычайной ситуации оправданно приостановить обычные процедуры ради целесообразности. Но, конечно, как только все становится вопросом безопасности, все становится чрезвычайным, и поэтому оправдано все – постоянная чрезвычайность становится процедурной основой управления”.[18]
Как ни странно звучит, но сегодня Коммунистическая партия Китая – это в некотором смысле крайний пример режима крайнего центра, в том числе и по своей паранойе и обеспечении мер безопасности режима. Несмотря на то, что задекларировано на бумаге, КПК, похоже, не особенно торопится достичь обещанного рая коммунизма. В конце концов, она десятилетиями проводила капиталистические реформы, чтобы разбогатеть. Скажем так, ее идеологическая интерпретация оказалась гибкой с течением времени. Если, например, вы сегодня в Китае входите в студенческую марксистскую группу и по наивности попытаетесь организовать недовольных местных рабочих в независимый профсоюз, как это время от времени делают глупые студенты, вас арестуют быстрее, чем вы успеете крикнуть “Пролетарии всех стран, объединяйтесь!”. А все потому, что, как и предсказывал де Жувенель, единственное, в чем КПК абсолютно не проявляет гибкости, – это полный и вечный контроль над всей властью в стране.
В Китае вихрь крайнего центра поглотил все доступное политическое и гражданское пространство. Только партия и ее члены могут быть допущены к организационной деятельности или принятию решений, а все ключевые институты страны, такие как вооруженные силы (Народно-освободительная армия), должны присягать на абсолютную лояльность именно партии, а не государству или нации (народу). Инстинкт сосредоточения всей власти в руках партийного центра присущ ленинским корням КПК, но в то же время является неотъемлемой частью ее крайнего центризма и более широкой управленческой природы.
Так же как и одержимость поддержанием того, что генсек Си Цзиньпин называет “тотальной безопасностью”. На данный момент эта китайская “концепция национальной безопасности” включает в себя как минимум 16 различных официально объявленных приоритетных областей, в которых безопасность должна строго поддерживаться в первоочередном порядке, в том числе “военную безопасность”, “экономическую безопасность”, “технологическую безопасность”, “информационную безопасность”, “культурную безопасность”, “экологическую безопасность”, “безопасность здоровья” и т.д. На первом месте стоит “политическая безопасность”, которая характеризуется как “основа” партии, государства и всего китайского общества. Политическая безопасность означает, что никто и никогда не сможет угрожать власти Центра.
В последние десятилетия в Соединенных Штатах, где также господствует крайний центр, неудивительно, что в более мягкой форме стала развиваться “обезопасивание всего”. Всерьез это началось после 11 сентября, а после 2016 г. усилилось в связи с паникой по поводу “иностранного” вмешательства в выборы и “дезинформации”. (Китай также не преминул обвинить “враждебные иностранные силы” в том, что они стоят за всеми неудобствами и неудачами режима). Затем наступило Великое пробуждение, 2020 год и COVID. Обеспечение безопасности стало выходить на более “тотальный” уровень. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), новый государственный орган, настолько поглощенный безопасностью, что в его названии дважды встречается это слово, например, считает своей задачей массовую цензуру государственных и частных коммуникаций для обеспечения безопасности не только сетевой инфраструктуры Америки, но и ее “политической инфраструктуры” и даже “когнитивной инфраструктуры”, т.е. сознания каждого американца. Терапевтическое государство начало сливаться с государством безопасности.
Такое “обезопасивание” всего и вся оказалось эффективным. Апеллируя к страху, режим смог хотя бы на время перевести свой кризис легитимности в состояние покоя, отвлекая внимание от собственных недостатков и провалов и оправдывая свой переход ко все более экстремальному поведению. Стимул подчеркивать внешние угрозы особенно силен, поскольку позволяет ассоциировать внутренних оппонентов с иностранными врагами, причем потенциально до такой степени, что различия могут быть размыты, а их права как граждан фактически аннулированы.
Самое главное, что переход на рельсы безопасности всего и вся со стороны крайнего центра облегчила Америке переход к правовому государству. Не путать с верховенством закона, но верховенство закона – это еще одна полезная концепция. С одной стороны, верховенство закона – это просто признание того, что для поддержания стабильности и “гармоничного” (податливого) общества необходимы законы, а людей необходимо заставлять их соблюдать. Это так называемое “управление на основе закона”, и Си Цзиньпин сделал его укрепление путем повышения профессионализма административно-правовой системы одним из ключевых приоритетов развития Китая. В то же время концепция правового государства прямо отвергает “ошибочное западное мышление”, выражаемое фразой “никто не стоит выше закона”. Как может что-то быть выше власти КПК? Не может быть верховенства закона над партийным центром, потому что закон – это лишь набор процедур, инструмент управления. “Полноценное управление страной на основе закона”, – пояснил Си, – означает “укрепление и совершенствование руководства партии” и “обеспечение эффективной реализации линии, принципов и политики партии на основе верховенства закона”. Суть закона заключается в том, чтобы способствовать правлению партии, поэтому, конечно, руководство партии выше закона.
Это вполне логично: если закон – инструмент управления людьми, то как он может ограничивать и властвовать над теми, кто его создает? Законы существуют для того, чтобы править управляемыми; если правители решают освободить себя от правил, то это не “лицемерие”, а просто власть. В конце концов, суверен – это тот, кто решает вопрос об исключении. Апелляция к верховенству “закона” (или к тому, что “никто не выше закона”), если вдуматься, довольно странная идея: она мыслима только в том случае, если даже высшие земные силы признают, что существует некая еще более высокая сила (будь то Бог или иной трансцендентный, неизменный и справедливый порядок, который отражает сам закон), которая может и будет привлекать их к ответственности, в этой или следующей жизни, за нарушение духа закона (справедливости). В отсутствие такой власти верховенство закона становится бессмыслицей, и остается только верховенство права. Разумеется, управленческий менеджмент не может допустить или даже представить себе какую-либо власть, превосходящую его самого; весь смысл его существования заключается в том, чтобы упорядочить и контролировать все сущее, и признание того, что что-либо находится вне его досягаемости, подрывает все его основы. Поэтому управленческий менеджмент и правовое государство не могут сосуществовать.
Таким образом, в Америке, где царит правовое государство, законы (их великое множество) по-прежнему будут действовать, но их трактовка и применение неизбежно будут сильно варьироваться в зависимости от того, насколько они соответствуют управленческому режиму в конкретной ситуации. Поскольку, как и в Китае, их цель – “обеспечить эффективное проведение в жизнь линии, принципов и политики партии на основе верховенства закона”, то, когда и к кому будут применяться законы, будет определяться в основном по тому же принципу “внутри – снаружи”, который определяет крайний центр. Субъективное толкование закона, означающее в один день одно, а в другой – другое, будет не только допустимо, но и абсолютно необходимо, лишь бы цель закона (защита центра и продвижение его управленческого проекта) оставалась неизменной, как руководящий принцип. Встраивание в закон расплывчатых и экспансивных формулировок, способствующих этому, станет нормой, подобно тому как китайский режим регулярно использует законы против таких неопределенных преступлений, как “распространение слухов” или “разжигание смуты”, чтобы гибко избавляться от проблемных людей по мере необходимости. А избирательное использование закона в качестве фракционного оружия (так называемая “правовая война”) для подрыва или уничтожения внешних политических и классовых врагов и укрытия внутренних союзников станет не только этически допустимым, но и практически гражданской обязанностью правящей элиты центра.
Таким образом, закон становится лишь инструментом революционной диалектики управленческого режима. Это, пожалуй, как никакой другой симптом, подтвердит и закрепит переход от представительной многопартийной демократии к однопартийному государству.
Однопартийное государство и объединенный фронт
Китай является однопартийным государством. Только члены одной политической партии – Коммунистической партии Китая – могут занимать какие-либо властные посты (хотя для видимости существует множество мелких “независимых” партий). Такое положение дел – шаг за пределы крайнего центризма, а то и его логическое завершение.
Но в чем, собственно, заключается природа однопартийного государства? Чтобы понять это, необходимо разобраться не только с однопартийностью, но и с партией-государством. Партия-государство, стихийно присущая практически всем революционным режимам в истории, представляет собой уникальную форму правления. Иногда ее описывают как систему, в которой одна доминирующая политическая группа функционирует как “государство в государстве”. Однако в случае с полностью сформировавшимся партийным государством, каким является Китай, такое описание было бы ошибочным, поскольку китайский режим больше похож на политическую партию с приставкой “государство”.
Китайская Народная Республика функционирует по принципу, который иногда называют “двухколейной” режимной системой. Существует национальное государство (правительство), и чиновники назначаются на должности в нем. Но параллельно с официальной государственной иерархией существует целая теневая система должностей в партийной системе. Каждый высокопоставленный чиновник должен быть также действительным членом партии (официально в КПК состоит около 98 млн. человек), у каждой государственной должности есть, по сути, соответствующая партийная должность, и часто один и тот же человек занимает обе должности. Например, Си Цзиньпин является одновременно и председателем КНР, и генеральным секретарем КПК. В каждом случае партийная должность превосходит государственную. Однако во многих случаях члены партии занимают должности, не соответствующие государственным, но, тем не менее, обладающие огромными полномочиями в государственных делах. И, как уже говорилось, целые институты, которые в большинстве стран были бы частью государства, например, военные, вместо этого являются партийными организациями. Таким образом, КНР нельзя назвать просто государством, это такое государство-партнер.
Партия-государство – это система, в которой, по терминологии Вильсона, фактически нет политики, а есть только администрация. Точнее, любая политическая конкуренция должна происходить внутри вселенной партии и ее идеологии, а за ее пределами она недопустима. Судьба государства уже определена, и не может быть никаких споров о том, куда плывет корабль, а только конкретика того, как наиболее эффективно (если это вообще возможно) достичь земли обетованной. Это формализация менеджеризма как единственного пути к прогрессу.
В таком партийном государстве, как Китай, уникальная роль партии означает отсутствие четкого разграничения между “государством” и “негосударством” – идея, которую иногда бывает трудно понять гражданам, выросшим в западных демократиях. Недавно, например, директор по коммуникациям Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), канадец, внезапно подал в отставку и бежал из Пекина в Токио, опасаясь за свою безопасность. Он с явным шоком сообщил, что AIIB, многосторонний банк развития, созданный Китаем, на самом деле не является независимым учреждением, а в нем доминирует группа членов КПК, которые “действуют как внутренняя тайная полиция” и являются “как бы невидимым правительством внутри банка”. Видимо, никто не объяснил бедняге, прежде чем он согласился на эту работу, что в Китае не может быть независимых или нейтральных учреждений – все крупные институты находятся под непосредственным управлением партии или иным образом вынуждены соответствовать ее целям.
Сегодня каждая корпорация или организация среднего или более крупного размера, действующая в Китае, как отечественная, так и зарубежная, по закону обязана создать внутреннюю партийную ячейку. В основном эти ячейки занимаются организацией типичных тренингов по сплочению коллектива, контролем политических знаний и морального состояния сотрудников, обучением их “регулированию своих слов и действий”, как говорится в партийных инструкциях. Но от крупных компаний ожидается, что они будут назначать штатных партийных секретарей, а также предоставлять принятым на работу членам партии “большую сцену для полного раскрытия их талантов”, как и подобает добросовестному работодателю, предоставляющему равные возможности. А в уставе многих китайских корпораций есть поправки, официально определяющие, что в ключевые моменты принятия решений “совет директоров должен в первую очередь запрашивать мнение ведущей партийной группы компании”. Можно сказать, что партия – это станция назначения из тех “заинтересованных сторон”, перед которыми несут ответственность компании в современной управленческой экономике.
Партия также создала широкую сеть беспартийных групп “гражданского общества” и общественных организаций, которые действуют “независимо” от государства. Это ГОНГО, или “неправительственные организации, организованные правительством”. КПК любит ГОНГО, поскольку они позволяют партии казаться ближе к “народным низам” и быть более представительной. ГОНГО также используются для продвижения целей КПК за пределами Китая, сохраняя при этом правдоподобное отрицание того, что это действительно работа китайского правительства.
Координация деятельности всех ГОНГО “гражданского общества”, “независимых” политических партий, этнических меньшинств и религиозных авторитетов, государственных и частных корпораций, интеллектуальных институтов, СМИ и т.д. для обеспечения их согласованности и единства с партией называется “работой единого фронта”. Благодаря нескольким недавним политическим скандалам в таких странах, как Австралия и Канада, “единый фронт” стал известен на Западе, но в основном только в виде некой теневой разведывательной организации, проводящей глобальные операции влияния с целью проникновения и наблюдения за населением этнических китайцев за рубежом и подрыва демократической политики. Это, безусловно, то, чем занимается Объединенный фронт, но это и нечто большее.
Единый фронт – ленинская идея, взятая на вооружение Мао, – изначально задумывался как стратегия обманного объединения максимально широкой коалиции (например, коммунистов с националистами и либеральными социалистами) для борьбы с империалистической агрессией и победы над ней, после чего некоммунистические временные союзники должны были быть, по выражению Сталина, “выжаты как лимоны”. Однако вскоре КПК поняла, что единый фронт слишком полезен, чтобы его можно было полностью ликвидировать. Партия сумела использовать тактику проникновения, подрывной деятельности и запугивания для кооптации и перепрофилирования многих некоммунистических организаций и со временем создала целую сеть подставных групп и попутчиков, которые можно было использовать для “органической” мобилизации от имени партии. Эта сеть – “единый фронт” – служит также для создания имиджа “демократического” плюрализма и поддержки целей партии со стороны широких масс населения. Таким образом, работа в рамках единого фронта стала одним из так называемых “волшебных оружий” партии, а сам единый фронт продолжал расширяться. Сегодня в единый фронт эффективно влились самые разные слои общества – от китайских технологических миллиардеров до Триады (китайской мафии), которые используются в полезных патриотических целях, например, в случае с бандитами – для избиения на улицах демонстрантов-демократов или сноса домов инакомыслящих с целью дать им понять это (так называемые аутсорсинговые репрессии). Единый фронт – это то, что действительно можно назвать операцией “всего общества”.
В Китае для организации Единого фронта существует официальное партийное подразделение – Департамент по работе Единого фронта (UFWD), однако роль этого учреждения не стоит преувеличивать. Работа Объединенного фронта считается работой для всей партии. Более того, в метафорическом смысле вся партия-государство работает как одна большая сеть Единого фронта.
Иными словами, хотя КПК очень иерархична (никто не перечит Си Цзиньпину и не отмахивается от его приказов), она обладает удивительно быстрой способностью синхронизироваться как горизонтальная сеть. Китай – огромная страна, поэтому, хотя Си и хочет быть императором, он не может даже знать обо всем, что происходит в системе, не говоря уже о микроменеджмент. И тем не менее, вся партийно-государственная система может практически мгновенно переключиться на новые приоритеты – часто до нездоровой зацикленности – и массово мобилизоваться вокруг них, словно единый улей. Если партийный центр решит, что актуальным является, скажем, продовольственная безопасность, то внезапно практически каждый местный партийный босс, газетчик, директор школы или сотрудник корпоративного офиса будет как минимум весь следующий месяц бесконечно рассказывать о страшной угрозе пищевых отходов и важнейшем вкладе компостирования в национальную безопасность – даже не имея на то специального указания. Конкретные директивы или формальная координация на самом деле не нужны. Это объясняется тем, что проникновение “всего общества” и обширная структура партийной сети позволяют ей автоматически выполнять роль координирующей нервной системы. И потому, что в такой системе лояльность к партии, выражающаяся в идеологическом конформизме, гораздо важнее для продвижения по службе, чем компетентность. Поэтому необходимы лишь самые общие идеологические установки, побуждающие партийные кадры повсеместно стремиться (из корысти/самосохранения) к интерпретации, соответствию и хотя бы риторическому воплощению этих установок в жизнь. Как только загружается последнее обновление идеологической системы, все, к лучшему или к худшему, пускаются в путь.
—-
Так есть ли у США или всего Запада собственный единый фронт? Пытливые умы, несомненно, хотят это знать. В этот момент невозможно не заметить ярко выраженную тенденцию к почти абсолютной синхронности действий западных элитных СМИ. Уже нет ничего необычного в том, что в течение одной недели, а то и одного дня появляется десяток различных статей в разных изданиях, в которых излагается абсолютно одинаковый материал на одну и ту же тему. Фактически это стало нормой. Очкастые “говорящие головы” на телевидении, повторяющие с идентичной фразеологией одни и те же тезисы в унисон сотни раз в течение нескольких дней, – это уже стандарт индустрии. Внезапное принятие одних и тех же языковых табу, переопределений и причуд. Одни и те же претензии на абсолютную истину с моральной необходимостью “развенчания” “дезинформации” любых альтернативных взглядов с последующим внезапным, одновременным, совершенно непризнанным и необъяснимым переходом к какой-то иной версии абсолютной истины. Одновременное определение одних и тех же врагов и актуальных угроз для общества. Одни и те же индивидуальные мишени, выделенные для одновременного нанесения ударов. Одни и те же нишевые объекты навязчивого, обморочного освещения. И одни и те же темы, представляющие большой общественный интерес, таинственным образом остаются совершенно незамеченными всеми СМИ, как будто сверху внезапно был введен официальный запрет даже на признание их существования. Все это стало нормой для СМИ.
Но, конечно, дело не только в СМИ. То, что политики, ученые, крупные корпорации, интернет-платформы, рекламодатели, развлекательные компании и все соседи, с которыми вы сталкиваетесь в магазине Wholefoods, внезапно переключились на одну и ту же еженедельную концепцию фактов, гонят одну и ту же пургу, вывешивают одни и те же флаги верности, стало нормальной, хотя и вызывающей недоумение, частью повседневной жизни на Западе. Такое массовое, синхронное следование постоянно меняющимся “актуальным вещам”, естественно, вызывает подозрение, что здесь имеет место некая координация сверху вниз. Является ли это работой единого фронта?
Формально – нет. Функционально – да. Может быть, в Китае и нет ничего похожего на официальную, централизованно управляемую организацию единого фронта, но сеть есть, и она едина и скоординирована, вернее, самокоординирована. Эта сеть объединенного фронта, конечно, и есть сам управленческий режим. Режим представляет собой объединение всех различных ветвей управленческой системы, и его можно рассматривать как единый институт (который в качестве альтернативы называют “собором”). Многочисленные институты каждой ветви ведут себя так, как будто они являются частью единой организационной структуры, причем вся структура движется рука об руку.
Почему так происходит? Кто контролирует эту единую сеть институтов? На самом деле никто не контролирует сеть; сеть контролирует всех. Что управляет сетью? Нарратив. Кажется, что все институты в соборе поют один гимн, потому что так оно и есть. Важнейшим объединяющим и координирующим механизмом управленческой системы является то, что все ее составные части разделяют единую доктринальную перспективу, приверженность одному и тому же мотивационному меметическому нарративу. В силу этого факта она выступает единым фронтом.
С точки зрения отдельного человека или даже института внутри режимной сети все выглядит, скорее всего, не так. Их заботы выглядят гораздо более обыденными: продвинуться в своем уголке системы, накопить престиж, получить материальное вознаграждение. На самом деле они чувствуют себя так, словно участвуют в тяжелом соревновании со своими сверстниками, а не поют с ними в одной гармонии. Но престиж (социальное одобрение и статус) – это главный невидимый движитель, который заставляет всю систему вращаться. Престиж – это отражение признания и избранности в рамках того или иного института или системы. Это способ, с помощью которого система указывает, какие люди считаются наиболее ценными для нее и, следовательно, наиболее ценятся ею. Те, кто обладает большим престижем, имеют более высокий статус и получают больше формальных и неформальных возможностей, поскольку другие члены системы хотят ассоциироваться с ними и быть связанными с ними. Это выражается во влиянии и вознаграждении.
Как люди узнают, что является ценным и, следовательно, престижным? В каждой системе есть негласная модель или идеал, соответствие которому люди, естественно, пытаются продемонстрировать. Этот идеал формируется на основе всеобъемлющего нарратива. Нарратив определяет основные вопросы системы, такие как: кто мы? Что мы делаем? Почему мы это делаем? Почему это делает нас лучше других людей? Кто наши враги? И т.д. Этот нарратив функционирует как дискурс, и через этот дискурс нарратив эволюционирует во времени. Будучи эволюционным, он характеризуется дарвиновским отбором: индивиды или составные части системы постоянно продвигают нарративные инновации через то, что они говорят и делают; некоторые из них обладают (в эволюционной терминологии) большей пригодностью, чем другие, и эти идеи отбираются, распространяются и интегрируются в нарратив. Те, чьи идеи отбираются, приобретают престиж, а отвергнутые – теряют престиж.
Но что определяет, какие нарративные адаптации пригодны для дальнейшего использования? Все просто: это те, которые делают систему сильнее. Кертис Ярвин в рамках своего объяснения соборности описывает такую адаптацию, которую он называет “доминирующей” идеей, как ту, которая “подтверждает использование власти”. Система всегда стремится принять и увековечить такие идеи или нарративы. Напротив, “рецессивная” идея – это та, которая “опровергает власть или ее использование”. Такая идея радиоактивна. В качестве простого примера можно привести бюрократа, отстаивающего идею о том, что бюрократии здравоохранения необходимо предоставить практически неограниченную власть, чтобы она могла реагировать на вирусную угрозу, – это престижный герой для всей бюрократической системы, который делает их всех более важными и могущественными. Бюрократ, публично заявляющий, что тот же самый вирус на самом деле не опасен и что никаких действий со стороны бюрократии здравоохранения на самом деле не требуется, является предателем всей системы. За то, что он ставит под сомнение саму необходимость бюрократов в здравоохранении, его осудят коллеги, заклеймят как низкостатусного и оборвут его карьеру – даже если он очевидно прав.
Из корыстных побуждений вся система постоянно поощряет соответствие доминирующим нарративным идеям и наказывает инакомыслие. Общий операционный нарратив – это накопление всех наиболее эффективных обоснований для подтверждения существования системы и ее роста до максимально возможного размера, могущества и престижа. Поэтому все, кто хочет накопить личный престиж или выгоду (а это практически все), должны лояльно придерживаться, поддерживать и защищать доминирующий нарратив, иначе они окажутся в крайне невыгодном положении.
Управленческий режим – это система систем. Каждая из них имеет локальный нарратив, подтверждающий ее особое существование и значимость, но эти нарративы вложены в более высокие нарративы. Профсоюз учителей имеет нарратив о себе, но он вложен в более высокий нарратив о важности управленческого массового образования. На вершине находится ур-нарратив, оправдывающий и объединяющий всю конструкцию. В нашем случае это сам менеджеризм: необходимость менеджеров управлять всем. Поэтому все, кто в системе систем (управленческом режиме) стремится к престижу и продвижению по службе, должны фактически подписываться под всеми этими нарративами, включая один и тот же ур-нарратив. Повторение ценностей и историй доминирующего нарратива служит индикатором принадлежности к системе, классу и общей праведной идентичности.
Таким образом, любой представитель профессионального управленческого класса, желающий стать или остаться членом управленческой элиты, почти неизбежно будет соответствовать и повторять одну и ту же широкую структуру нарративных убеждений, даже если они работают в совершенно разных учреждениях и занимаются разными профессиями. Агент ФБР Фрэнк и журналист Джоанна запрограммированы одинаково реагировать на один и тот же нарративный стимул, повторять одни и те же лозунги и заниматься одним и тем же требуемым “не замечанием” реальности, просто потому, что каждый из них хочет избежать изгнания и продвинуться по служебной лестнице в рамках иерархии престижа своих организаций. Для того чтобы заставить их это делать, не требуется никакой прямой координации.
То же самое относится и к целым институтам: те, кто стремится подтвердить свой престиж в рамках управленческого режима, будут придерживаться одного и того же нарратива. Поэтому такие элитные институты, как Гарвард и The New York Times, поддерживают и продвигают по сути идентичные убеждения. В то же время университеты и газеты с более низким статусом будут стараться вести себя как можно более похоже на них (престижный идеал) и, соответственно, пропагандировать тот же нарратив с еще большей преданностью, чем они. (Конечно, этому способствует и то, что все эти институты черпают силы из одного и того же олигархического класса людей – можно сказать, из одной и той же неформальной тусовки, – которым с рождения прививаются одни и те же системы и нарративные мировоззрения, которые они посещают в одних и тех же школах, живут в одних и тех же почтовых индексах, потребляют одни и те же средства массовой информации и культуру и т.д.).
Почему “вокизм” захватил сразу все элитные институты? В первую очередь потому, что это была доминирующая нарративная инновация, оправдывающая увеличение численности управленческой элиты и всей управленческой системы в целом, ее могущества, статуса и значимости для общества. Разумеется, мало кто из представителей этих институтов мог противостоять этому.
Влияние нарративной координации усиливается еще и тем, что, подобно КПК, управленческая “партия” уже достигла обширного уровня проникновения во все слои общества. Любое скопление достаточно большого числа профессиональных управленцев – например, отдел кадров, офис DEI или отдел коммуникаций – может стать фактической “партийной ячейкой”, готовым механизмом наблюдения и отчетности, каналом пропаганды и группой внутреннего давления. И это происходит независимо от того, насколько глубоко на “враждебной” географической/классовой территории они находятся. Поскольку любая достаточно крупная организация в конечном итоге вынуждена нанимать таких управленчески образованных людей для своей работы, практически ни одно учреждение, даже, скажем, энергетическая компания в Техасе, принадлежащая в основном рабочему классу, христианская школа в Алабаме или военная академия в Вирджинии, не будет избавлено от постоянного накопления собственной группы агитаторов, призванных подталкивать ее к принятию управленческой политики, практики и ценностей, благоприятных для элиты. (Таким образом, можно ожидать, что любая организация, не настроенная явно против управленческой деятельности, рано или поздно станет управленческой). Если все эти ячейки удастся объединить с помощью нарратива, чтобы они действовали в одном направлении, то они могут стать чрезвычайно мощной силой для изменений на национальном уровне (что мы и наблюдаем с 2020 г.).
Чем же отличается этот механизм координации нарратива от той роли, которую идеология играет в партийном государстве, например в Китае? На самом деле нет. Идеология – это просто записанный и кодифицированный нарратив. Но идеология, оставленная в основном в виде свободно плавающего нарратива, так сказать, в облаке, на самом деле может быть даже более всеохватывающей и влиятельной, именно потому, что она более гибкая и способна постоянно обновляться в направлении, максимизирующем власть. В этом, пожалуй, и заключается реальное преимущество мягких управленческих систем перед их более открытыми и жестко идеологизированными жесткими братьями и сестрами.
Итак, подведем итог: согласно этой концепции, если на Западе и существует единый фронт, то это не явная сеть акторов, сознательно работающих вместе, а единство, сформированное на основе соответствия нарративу. Он функционирует как некий роевой интеллект (или эгрегор), а не действует через какой-либо центральный или нисходящий контроль. Это может объяснить, почему мягкие управленческие институты движутся почти полностью синхронно друг с другом, и так было в течение некоторого времени.
Но, постойте… Это не совсем соответствует реальности того, что мы наблюдаем в последние годы на Западе, в том числе и в виде огромного Цензурно-промышленного комплекса. Как показывают бесстрашные журналистские расследования таких журналистов, как Майкл Шелленбергер из журнала Public, Майкл Шелленбергер из журнала Public, и многих других, этот комплекс представляет собой сеть управленческих институтов, которые напрямую координируют свои действия друг с другом с целью цензуры политической оппозиции и манипулирования общественностью.
По их собственным словам, такие технологические платформы, как Twitter, Facebook и Google, осуществляют широкое “сотрудничество” с “партнерами” из федеральных органов власти, включая Пентагон, Госдепартамент, разведывательные службы и органы здравоохранения, а также с коммерческими оборонными подрядчиками, НПО, университетами, аналитическими центрами, СМИ и Демократической партией с целью уничтожения или ограничения доступа к информации, наносящей ущерб их интересам. Например, руководители Twitter описывают отношения компании с ФБР как “тесное, хорошо скоординированное партнерство”. Эта сеть создала так называемый “Виртуальный координационный центр” для управления информационными операциями десятков учреждений во время выборов 2020 года (и после этого он не был расформирован). Тысячи страниц электронной почты и записи сотен часов совещаний свидетельствуют о постоянных прямых указаниях со стороны государства технологическим компаниям цензурировать публичную речь. Белый дом неоднократно рассылал списки отдельных аккаунтов, которые требовалось “выкинуть” из социальных сетей, например, таких критически настроенных журналистов, как Алекс Беренсон. При этом официальные лица часто использовали формулировки, напрямую использующие их авторитет, например, утверждали, что “высшие (и я имею в виду высшие) уровни” администрации требуют принятия мер, или – после обнаружения существования пародийных аккаунтов, высмеивающих Хантера Байдена, – заявляли, что не могут “подчеркнуть степень необходимости немедленного решения этой проблемы” (как и другие подобные просьбы, эта была “решена” в течение 45 минут). Более того, эта сеть является транснациональной. Даже иностранные государства, включая ЕС и украинскую спецслужбу СБУ, успешно вступают в сговор с технологическими компаниями с целью ограничения свободы слова американских (и других стран) граждан. Неудивительно, что в подробном 155-страничном постановлении один из федеральных судей недавно охарактеризовал эту “почти антиутопическую” схему как, возможно, “самую масштабную атаку на свободу слова в истории Соединенных Штатов”.
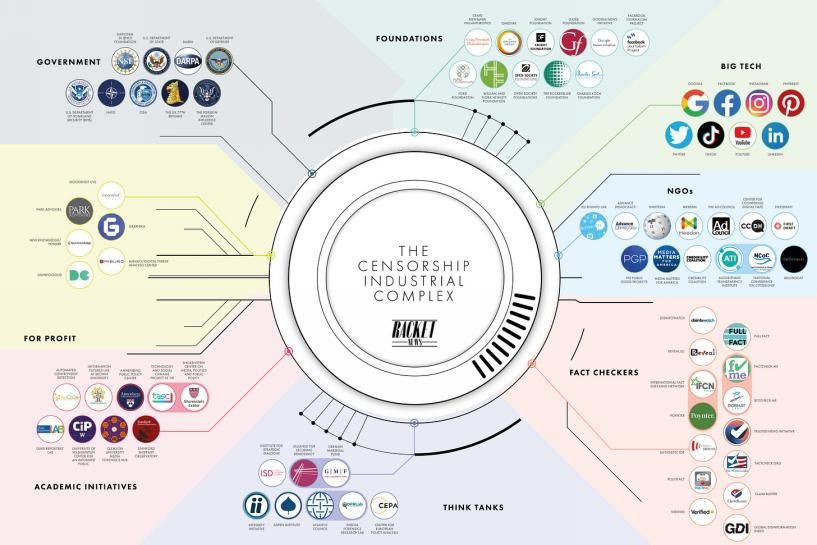
Кликните для получения увеличенной версии, по материалам Racket News.
Даже тот ограниченный взгляд на айсберг, который мы получили на данный момент, показывает обширный оперативный картель государственных и частных управленческих организаций, который по своей непосредственной координации гораздо больше напоминает сеть единого фронта КПК, чем более расплывчатые агломерации, основанные на общих интересах и нарративах, которые могли существовать в прошлом.
Как проницательно отмечает Джейкоб Сигел в своем глубоком исследовании развития цензурно-промышленного комплекса, с 2016 года “противодействие дезинформации” (западный эвфемизм для “политической безопасности”) регулярно описывается как требующее разработки стратегии “всего общества”. “Эффективно бороться с дезинформацией и повышать устойчивость к ней может только подход, основанный на участии всего общества – правительства, частных компаний и гражданского общества”, – так сформулировал свою позицию в 2020 г. директор ФБР Кристофер Врей. По его словам, такой подход стал “центральным элементом нашей работы с государственным и частным секторами, от других правительственных агентств до компаний всех размеров, университетов и неправительственных организаций”. Действительно, в настоящее время в западном мире практически повсеместно используется концепция “всего общества”, которая служит оправданием прямого слияния государственной власти с единой и разветвленной международной сетью управленческих технократов, фактически обходя и ограждая ее от любого демократического контроля.
На самом деле, похоже, что восстание элит привело не просто к формированию более самосознательной и оборонительной олигархической сети, но и к ее застыванию в нечто, что начинает очень сильно напоминать единую партию государства-партии. В результате механизм координации нарратива, похоже, начал эволюционировать и кристаллизоваться в нечто большее – активно проводимую партийную линию.
В такой ленинской системе, как Китай, “линия партии” – это “истина”, которой все должны придерживаться, иначе никак. Линия партии постоянно меняется в зависимости от потребностей партийного центра, и важнейшая задача обычного человека – постоянно и без подсказок определять, где находится эта линия в каждый конкретный момент, и ловко перестраивать свои убеждения в соответствии с ней. Инстинктивную способность к этому Исайя Берлин, наблюдая за коммунистической Россией, однажды назвал “самым ценным умением”, которое может приобрести гражданин такого режима. Неспособность овладеть этим искусством может стать роковой даже для самых преданных кадров. Даже слишком ревностное следование вчерашним святым истинам может стать катастрофической ошибкой. Но Берлин отмечал, что, хотя “неспособность предсказать любопытные движения линии является решающим недостатком коммуниста”, всегда оставалось так, что “никто не может чувствовать себя уверенным в пароле изо дня в день”.
Это происходит намеренно. В такой системе следование партийной линии – или поддержание того, что в России после революции 1917 года стало называться “политкорректностью”, – само по себе является истинной проверкой надежности и лояльности человека к режиму.[19] В результате большинство людей перестают говорить, если не уверены в правильности своих взглядов, используют осторожную двусмысленность и вообще избегают “опасных” тем. Общество неизбежно завоевывается тем, что при коммунизме называлось “деревянным языком” (“la langue de bois“), или тем, что Оруэлл сатирически назвал “Newspeak”: неким непонятным диалектом зомби, который одновременно мертв, не говорит ничего реального, но при этом может быть искажен, чтобы означать все, что нужно, когда нужно. Чиновники КПК и прочая нежить надежно владеют этим языком.
Партийная линия идеологична по содержанию, но на самом деле идеологией не является. Она меняется с каждым днем и, в конечном счете, пуста и цинична. Она подобна описанному выше координирующему нарративу, но в отличие от такого нарратива, влияние которого в значительной степени неосознанно, партийная линия осознается всеми как доминирующая. Если нарратив в основном соблазнителен, то партийная линия поддерживается, по крайней мере, в такой же степени силой террора; она является выражением власти, принудительным конформизмом. И если нарратив в основном распространяется только на свою внутреннюю группу, то партийная линия навязывает себя всем, включая врагов, и требует повиновения. Это характерно для тоталитаризма.
Почему более аморфный нарратив Запада теперь превратился в более жесткую партийную линию? Следует отметить, что у доминирующего нарратива нет никаких внутренних стимулов для поддержания его связи с реальностью. Если нарратив – это дискурс, то он находится в дискурсе только с самим собой. Это замкнутый, самоподдерживающийся цикл обратной связи, который вознаграждает каждое новое обоснование роста власти и масштабов, независимо от того, имеет ли это обоснование хоть какую-то основу в истине, и наказывает любую угрозу ограничения. Таким образом, у нее есть все стимулы для того, чтобы в конце концов достичь взлетной скорости и оставить позади всю земную реальность. Те, кто настаивает на попытках вернуть реальность, становятся угрозой для ее роста. Защита нарратива от реальности становится основной задачей систем нарратива.
Чем более неестественной (оторванной от реальности) является система, тем больше силы требуется для ее навязывания. Чем больше нарратив подвергается сомнению, тем яростнее его защищают те, кто им владеет, и тем более оправданным они считают применение силы принуждения. “Благородная” ложь, по крайней мере, быстро становится допустимой для защиты большой “правды” системы – и тогда те, кто находится на вершине системы, начинают подстраивать и манипулировать самим распространяемым нарративом, пытаясь защитить его от своих врагов. Одновременно с этим небольшая часть тех, кто пробился наверх, как это не удивительно, становится психопатами. Для них никогда не была важна истина нарратива, а только власть, поэтому они с удовольствием берут на себя более прямой контроль над нарративом, если это возможно. Но поскольку нарратив в некотором смысле сам является психопатическим, учитывая его властно-максимальную природу, они формируют своего рода симбиотические отношения, чтобы расти вместе. В любом случае, как для циника, так и для истинно верующего, нарратив, естественно, становится тем, чем нужно управлять.
В сочетании с экстремальным центром, стремительно усиливающим паранойю по поводу угроз его легитимности и подконтрольности, и решимостью отвечать на них управленческим единым фронтом, мы получаем линию партии. Через нее всем должна быть навязана сингулярная нереальность однопартийного государства. Хотя успех такой перспективы может показаться нереальным, партии, похоже, повезло: новые технологии дают ей дразнящую надежду на то, что тотальное управление реальностью действительно может быть вскоре достигнуто, а нарративная гармония восстановлена.
Управление реальностью
Размышляя о цензурно-промышленном комплексе, Мэтт Тайбби в подкасте с писателем “Июль 2023″ отметил, что все эти “эксперты”, “разработав цифровые механизмы, с помощью которых они могут уменьшить громкость различных идей” в Интернете – с помощью таких инструментов, как “деамплификация” (теневой запрет), манипулирование поиском и выборочное добавление “фрикций” (например, предупреждений о ненадлежащем содержании), – фактически назначили себя “неизбранными хозяевами Вселенной, которые вмешиваются в саму реальность”.
Далее Кирн привел выразительную метафору:
Они микшируют пластинку, Мэтт. Они сидят там за звуковой панелью и микшируют пластинку. Еще немного ковбелла. Давайте убавим басы. Давайте поднимем высокие частоты, и они используют такие слова, как трение и другие механические метафоры для обозначения того, что они делают с реальными людьми. И все мы – просто байты и цифры в этом музыкальном спектакле, который они называют обществом. И это действительно звучит дико, потому что звучит так высокомерно, так непринужденно высокомерно, как будто социальные процессы – это компьютерные процессы, а мысли, чувства и мнения общества – это различные инструменты в студии звукозаписи, которые нужно усилить или ослабить.
Это особенно точно характеризует отношение менеджеризма к коллективной реальности: как к чему-то, что можно отладить с помощью экспертизы. “Какое общество, какая экономика, какая культура нас ожидает, если это будет продолжаться бесконтрольно?” – задается вопросом Кирн. задается вопросом Кирн. “Мы говорим о мыслях, никогда не достигающих видимости, и о такой власти, которой, вероятно, раньше не существовало”.
Скорее всего, мы это узнаем. Как отмечает Сигел в заключении своего очерка, уже сейчас “первые великие сражения информационной войны закончены”. Неуклюжие первые вылазки цензурно-промышленного комплекса были “предприняты классом журналистов, отставных генералов, шпионов, боссов Демократической партии, партийных аппаратчиков и экспертов по борьбе с терроризмом против остатков американского народа, отказавшихся подчиниться их власти”. Но очевидно, что на смену этому средству массовой цензуры, “требующему значительного человеческого труда и оставляющему после себя множество улик”, уже приходят гораздо более изощренные технологические методы контроля. “Будущие битвы, ведущиеся с помощью технологий искусственного интеллекта, – предупреждает Сигел, – будут более трудными для восприятия”.
Искусственный интеллект и другие достижения могут позволить создать гораздо более точную и всесторонне контролируемую информационную среду. В результате может возникнуть мир, в котором автоматические цензоры способны не только мгновенно обнаруживать и удалять неугодный режиму контент, но и полностью фильтровать и формировать всю информацию, поступающую к человеку через Интернет. Результатами поиска можно манипулировать, неудобные факты и данные можно просто не обнаружить. Определения, официальные документы, базы данных, цифровые учебники и даже литература могут быть изменены на лету, чтобы соответствовать партийной линии. Несогласные мнения и новости могут быть алгоритмически подавлены или сделаны полностью недоступными, а их искателей легко перенаправить на пропаганду. Даже масштабные события в реальном мире, такие как крупные акции протеста, могут быть фактически исчезнуты, как будто их и не было, или немедленно перефразированы с помощью выборочного редактирования в соответствии с выбранным пропагандистским сценарием. Персональные цифровые идентификаторы (будь то официально установленные или просто неофициально созданные для каждого человека путем сбора больших данных) позволят последовательно направлять каждому человеку индивидуальные сообщения и стимулирующие “подталкивания”.
Конечно, все это уже происходит. Компании, работающие в социальных сетях, уже алгоритмически фильтруют информацию, тайно внедряют “черные списки поиска”, не допускают к трендам определенные темы, выборочно отключают ссылки. Эти методы уже используются в откровенно политических целях. Компания Google уже регулярно попадалась на манипуляциях с результатами поиска (например, скрывала результаты поиска по скептически настроенной Грейт-Баррингтонской декларации и показывала пользователям только критикующие ее мнения, что подтверждается документами, рассмотренными в деле “Миссури против Байдена”). Словари уже пересматривают официальное значение слов практически в режиме реального времени по мере изменения партийной линии. То же самое делают государственные органы и их СМИ. Новостные издания регулярно вносят скрытые правки, целые скандалы стираются из памяти. Сегодня даже целые романы переписываются без согласия автора или даже без его ведома, чтобы убедиться в их соответствии. (В настоящее время существует целая индустрия “чувствительных читателей”, которые подвергают публикации предварительной чистке в бесплодной попытке избежать необходимости делать это позже). Программное обеспечение Google уже “помогает” пользователям, автоматически предлагая им изменить политически некорректные слова и фразы в процессе их написания.
Но это могут быть лишь первые шаги на пути к тому, что с дальнейшим развитием ИИ может превратиться во всеобъемлющий режим алгоритмической травли и полностью автоматизированного управления нарративом. Истинная сила тоталитарных режимов, по словам Ханны Арендт, заключалась в том, что еще “до того, как движение получило возможность опустить железные занавески, чтобы никто не мог нарушить ни малейшей реальностью жуткую тишину совершенно воображаемого мира”, их пропагандистские машины обладали “способностью отгораживать массы от реального мира”. Сегодня, когда устройства виртуальной реальности уже позволяют создавать “дополненную реальность” (наложение виртуального на восприятие реальности), огромное поле искажения реальности грозит обосноваться между обществом и истинным миром.
Разумеется, управленческий режим уже ведет яростную работу по созданию такой машины искажения реальности путем интеграции ИИ в существующую одержимость контролем над информацией. Интернет-компании и социальные сети начали реализацию инициатив, направленных на “предварительное букирование” информации, или то, что бывший сотрудник Госдепартамента Майк Бенц называет “формой нарративной цензуры, интегрированной в алгоритмы социальных сетей, чтобы остановить формирование у граждан определенных социальных и политических систем убеждений”, и сравнивает с попытками полицейского “предварительного расследования преступлений”. Следуя призыву Билла Гейтса использовать ИИ для подавления “теорий заговора” и “политической поляризации”, Google, например, будет стремиться по поручению правительства Германии “сделать людей более устойчивыми к разрушительному воздействию сетевой дезинформации”. В США Министерство обороны выделило десятки миллионов долларов подрядчикам, обещающим автоматизировать “защиту” от “дезинформации”, а Национальный научный фонд запустил “Акселератор конвергенции” (да, действительно) для разработки технологий, предназначенных для мониторинга и противодействия таким ересям, как “нерешительность в отношении вакцин и скептицизм на выборах”.
Между тем в недалеком будущем, если спросить что-то у поисковой системы, например Google, она вообще не будет выдавать дискретные результаты поиска. Вместо этого чат-бот с искусственным интеллектом будет мгновенно сообщать вам все, что, по его мнению, вам нужно знать в ответ. Похоже, это станет нормой практически везде, где человек взаимодействует с цифровыми технологиями. Но, разумеется, такой ИИ не будет говорить всю правду, а только ту, которую определят кадры в коде. Мы уже знаем, что ChatGPT, например, не просто предвзят и идеологизирован; как отмечает математик и писатель Брайан Чау, явная политика его создателя OpenAI означает, что структура его кода уже “доходит до того, что запрещает чатботу сообщать политически неудобные факты [вообще], даже те, с которыми согласны в научном сообществе”. Он буквально создан для того, чтобы быть неспособным точно описывать реальность. Его призвание – быстро повторять правильную партийную линию. (“Факт: Океания всегда воевала с Евразией”). Но сколько людей просто примут за чистую монету то, что им скажет такой ИИ? Несомненно, большая надежда менеджеров состоит в том, что в конечном итоге, по мере того как технология будет заставлять людей становиться все более ленивыми и менее самостоятельными, ответ будет таким: почти все.
Известный венчурный капиталист и технолог Марк Андреессен предсказывает, что стремительно ускоряющийся прогресс в области больших языковых моделей ИИ, таких как ChatGPT, означает, что скоро мы будем жить в мире, где “у каждого ребенка будет ИИ-репетитор, бесконечно терпеливый, бесконечно сострадательный, бесконечно знающий, бесконечно полезный”. Фактически у каждого человека будет такой же замечательный “помощник/тренер/наставник/инструктор/советник/терапевт”, который будет постоянно сидеть у его уха и говорить ему, во что верить. Новому человеку этой удивительной утопии даже не нужно будет напрягаться, чтобы думать или запоминать что-то самостоятельно! Вся информация будет удобно смешиваться и подаваться ему с ложечки огромным и опекающим ИИ через его когнитивную инфраструктуру, о которой, конечно же, будет заботиться государство. Если такое будущее действительно наступит, я подозреваю, что это, несомненно, будет мир, в котором не существует ничего, кроме бесконечного настоящего, в котором сторона всегда права.
Это было бы величайшим возможным триумфом мягкого менеджмента: система, в которой любое потенциальное сопротивление масс полностью сдерживается манипулированием нарративом, без необходимости принуждения или открытого применения силы. Поэтому неудивительно, что развитие такого рода инновационного нарративного контроля является одной из областей, где Запад фактически лидирует, в то время как Китай с его масштабной, но относительно неэффективной цензурой и неинспирированным пропагандистским аппаратом сейчас пытается догнать и развить столь же изощренную дискурсивную власть.
Тем не менее, как бы ни была упряма реальность, одного нарративного управления вряд ли когда-нибудь будет достаточно для того, чтобы добиться всеобщего подчинения партийной линии. В конечном итоге для борьбы с инакомыслием неизбежно потребуются другие, более силовые методы. И здесь лидером для всего мира является Китай.
Наслаждайтесь опытом Фэнцяо! – Управление через социальный контроль по линии масс
Си Цзиньпин и его чиновники любят с тоской рассуждать об удовольствиях “опыта Фэнцяо” (枫桥经验) и делиться ими со всем Китаем. Фэнцяо (“Кленовый мост”) – это живописный городок в провинции Чжэцзян, но, боюсь, опыт Фэнцяо – это не туристический пакет. Скорее, в 1960-х годах Фэнцяо отличился как образцовый город в глазах Мао. Если обычно партийным головорезам приходилось выискивать и вылавливать “реакционные элементы”, то в Фэнцяо люди справлялись с этим сами: “ни одного человека [не пришлось] вылавливать, и все же с подавляющим большинством врагов удалось расправиться”. Блестяще!
Фэнцяо произвел на Мао такое впечатление потому, что, постоянно наблюдая и донося друг на друга, проводя “исправление на месте” (сеансы борьбы с толпой) и “реабилитацию” (реформирование мышления) для коллективного принуждения к соответствию, люди успешно следили за собой без предупреждения. Здесь, наконец, был показан пример “диктатуры масс”, которую надеялся установить Мао. При достаточной мобилизации со стороны руководства партии “массовая линия” населения могла успешно осуществлять огромный социальный контроль над собой от имени партии. Мао призвал партию учиться на опыте Фэнцяо и тем самым заложил в твердую почву воображения КПК семя, которое пустило корни и проросло: мечту о том, что население будет настолько основательно обустроено китайским социализмом, что однажды оно практически само будет управлять собой.
Сегодня Си возродил и модернизировал эту идею, соединив ее с новыми инструментами – инструментами цифровой революции. С призывами к “массовому предупреждению и массовому управлению”, “цифровой справедливости для масс” и “управлению по принципу решетки” традиционные методы мониторинга и контроля социальных масс в стиле Фэнцяо (такие как организованные группы информаторов, линии наводки, публичные “призывы” и общественное позорище) были объединены с мобилизацией в масштабах Интернета и обширным аппаратом цифрового наблюдения.[20] В настоящее время это включает в себя аналитику больших данных, интегрирующую универсальное отслеживание биометрических данных, местоположения и финансовых покупок в реальном времени (в том числе через вездесущее “приложение для всего” WeChat), а также историю Интернета и социальных сетей и картирование межличностных отношений.
Жемчужиной в короне этого подхода должна стать китайская система социального кредитования. Благодаря алгоритмической обработке и массивам данных, собранных о каждом человеке, эта система (которая пока находится в процессе разработки, пилотирования и внедрения) призвана присваивать каждому человеку, а также каждой компании или организации уникальный суммарный балл “социального кредита”. Этот показатель во многом похож на финансовый кредитный балл: на основе наблюдаемого поведения и других “факторов риска” он может быть скорректирован в сторону увеличения или уменьшения, чтобы определить человека или компанию как более или менее “благонадежную” или “неблагонадежную”. В ходе проведенных на сегодняшний день испытаний те, кто имеет более высокий балл, получают все больше преимуществ, таких как приоритетный доступ к путешествиям, кредитам, жилью, высшему образованию и даже здравоохранению. Те же, кто набрал меньше баллов, подвергаются все более жестким наказаниям: лишаются доступа к финансовой системе, им запрещается покупать предметы роскоши, билеты на самолеты и скоростные железные дороги, недвижимость, а также отказывают в приеме себя и своих детей в определенные школы и университеты. Заявленная цель системы – “позволить благонадежным людям бродить повсюду под небесами, а дискредитированным – не делать ни одного шага”, – преподносится как благое средство повышения общего уровня “доверия” в обществе.
Баллы можно получить, совершая добрые дела, например, занимаясь волонтерством, или усиливая государственную пропаганду. Компании могут делать пожертвования в благотворительные фонды GONGO и соблюдать схемы корпоративной социальной ответственности. Баллы теряются при плохом поведении: мусоре, несвоевременной оплате счетов и штрафов, нарушении правил дорожного движения, переходе проезжей части, создании общественных “беспорядков”, распространении вредной “дезинформации” в Интернете (особенно о режиме). В последнее время экологическое регулирование стало интегрироваться в кредитную систему, и “неэкологичное” поведение стало учитываться в баллах.
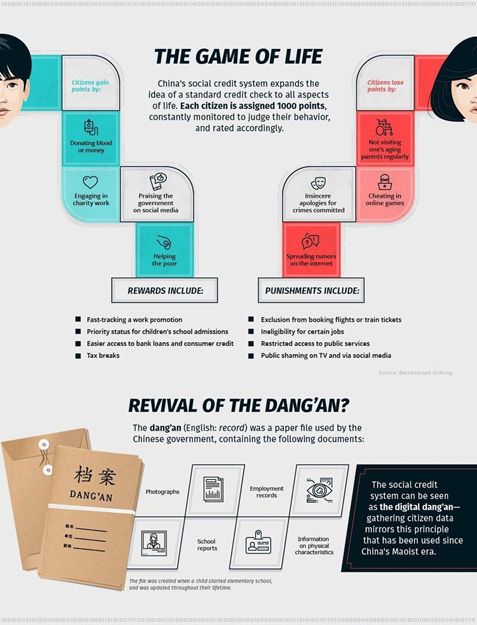
Важно отметить, что эта система носит заведомо социальный характер. Люди с низкими показателями публично публикуются в Интернете или на рекламных щитах; даже некоторые приложения для знакомств уже опробовали введение социальных кредитных баллов. Что особенно важно, поскольку слишком частые отношения с людьми с низким рейтингом чреваты снижением собственного рейтинга, у людей появляется стимул избегать общения с “дискредитированными”, что ускоряет их постепенное обезличивание обществом.
Несмотря на то что система социального кредитования находится в стадии разработки и пока не реализована в полной мере (на что обращает внимание удивительное количество апологетов на Западе, стремящихся преуменьшить или вовсе отвергнуть ее существование), тоталитарная направленность этой идеи абсолютно очевидна, причем с момента появления планов ее создания в 2014 году. Ее цель – универсализация опыта “Фэнцяо”, или того, что партия альтернативно называет “социальным управлением”. В докладе Канадской службы разведки и безопасности говорится следующее: “Социальное управление описывает систему, которая является самоуправляемой – система, которая может автоматически настраивать себя, чтобы помочь партии укрепить и расширить власть”.
В связи с этим в докладе отмечается: “Функция социального кредита в методологии управления КПК заключается в автоматизации “индивидуальной ответственности” – концепции, согласно которой каждый гражданин обеспечивает социальную стабильность и национальную безопасность”. Другими словами, система социальных кредитов направлена на то, чтобы с помощью всестороннего погружения в неизбежную систему постоянного положительного и отрицательного подкрепления – смешения поощрений и наказаний, тонко подстраиваемого по мере необходимости, как будто вносятся коррективы в звуковую панель, – полностью обуздать своих граждан. Или, можно сказать, она эффективно “покрывает поверхность общества сетью мелких сложных правил, мельчайших и единообразных, через которые не могут пробиться самые оригинальные умы и самые энергичные характеры”. Целью такой геймификации сознания, как обычно, является создание Нового человека, который будет вписан в управленческую машину. Нам не нужно рассуждать о том, что это намерение – оно всегда и везде является неумолимой целью менеджериализма (“Психоанализ нес в себе обещание, что это можно сделать…”).
Такая социальная инженерия уже дала свои результаты. Я, например, хорошо помню, как в Китае даже в конце 2000-х – середине 2010-х годов абсолютно все постоянно ходили по пешеходным переходам.[21] Это был просто факт жизни, культурная константа, видимо, укоренившаяся за неизвестно сколько веков удивительно неисправимого прагматизма китайского крестьянства и его полного нежелания стоять в какой бы то ни было очереди. Сегодня никто не ходит по пешеходным переходам (по крайней мере, в городе), потому что, если вы это сделаете, ваша личность будет зафиксирована камерой распознавания лиц, ваше лицо, имя и идентификационный номер будут размещены на позорном щите рядом с перекрестком, а штраф будет отправлен в ваш банк. Все эти столетия формирования культурных установок были успешно переписаны всего лишь несколькими годами машинного воспитания.
На рекламном щите в Китае можно увидеть лицо, имя и идентификационный номер нарушителя.
На Западе нетерпеливые глаза наблюдают и учатся.
В июне британский банк Coutts без объяснения причин закрыл счет политика правого толка Найджела Фараджа. Впоследствии Фаражу отказали в обслуживании десять других банков. Внутренние “рисковые” документы, подготовленные банком и полученные Фараджем, вскоре показали, чем руководствовался Coutt при “выходе” его со счета: Фарадж был признан “несовместимым с Coutts, учитывая его публично высказанные взгляды, которые противоречат нашей позиции как инклюзивной организации”. В списке ужасных грехов Фараджа значились: дружба с Дональдом Трампом и невакцинированным чемпионом по теннису Новаком Джоковичем; агитация за Brexit; использование слова “глобалист” с негативным оттенком; “отрицание климата/антисетевой ноль”; “ксенофобия и расизм”; “фашизм” в школьные годы, по некоторым слухам, услышанным от человека, обладающего информацией. В совокупности эти факты доказывали, что Фарадж “все больше теряет связь с широким обществом” (т.е. с прогрессом) и, таким образом, представляет “постоянный репутационный риск для банка”. Поэтому, особенно “если учесть нашу позицию в отношении ESG/разнообразия”, он должен был уйти.
В данном случае, будучи пойманным с поличным на “дебанкротстве” известного и подкованного политика по политическим мотивам, банк в итоге был вынужден принести извинения, а некоторые его топ-менеджеры – уйти в отставку. Однако такие последствия являются исключением из правил. В последние годы политически мотивированный дебанкинг становится все более распространенной практикой на Западе.
Наиболее памятным является случай, когда канадское правительство Джастина Трюдо применило чрезвычайные полномочия для замораживания банковских счетов и ареста имущества дальнобойщиков, протестующих против его разрушительных вакцинальных мандатов и демагогии. Счета канадцев, которые просто пожертвовали деньги в поддержку дальнобойщиков, также были заморожены. Подобная тактика использования финансовых рычагов для личного уничтожения политических диссидентов и подавления протестов быстро распространилась по всему миру, в частности, она была применена против протестующих дальнобойщиков в Бразилии.
Однако дебанкинг по инициативе самих банков, похоже, стал еще более распространенным явлением. Например, в том же месяце, что и Фарадж, в Великобритании преподобному Ричарду Фотергиллу закрыли счет на месте после того, как он выразил легкое несогласие с неустанным продвижением банком трансгендерной идеологии в ходе опроса клиентов (в банке ему сказали, что такое мнение “недопустимо”). В том же месяце шотландский блогер-антиутопист Стюарт Кэмпбелл (Stuart Campbell) закрыл свой 25-летний счет в банке First Direct, даже не уведомив его об этом. Он узнал об этом только после того, как внезапно обнаружил, что не может воспользоваться своей картой для покупки продуктов. В США, спустя всего несколько дней после скандала с Фараджем, банк JP Morgan Chase закрыл банковские счета сторонника антивакцинальной политики доктора Джозефа Мерколы, а также генерального и финансового директоров его компании, их супругов и всех их детей. И опять же, все эти примеры относятся только к одному месяцу. И такие случаи, которые удалось привлечь внимание общественности, несомненно, являются лишь верхушкой айсберга. По словам Фараджа, он начал собирать “очень большую базу данных”, включающую потенциально тысячи подобных случаев только в Великобритании.
Не только банки участвуют в этом процессе. К ним присоединились и онлайновые платежные платформы. GoFundMe по собственной инициативе конфисковал деньги, пожертвованные канадским дальнобойщикам через свою платформу. В мае популярный подкаст “Триггернометрия против воков” был деплатформирован финтех-компанией Tide. PayPal, в одном из наиболее символичных случаев своего особенно активного дебанкинга, отключил от сети Союз свободы слова за пропаганду “нетерпимости”. Кроме того, PayPal попыталась включить в свое пользовательское соглашение формулировку, позволяющую конфисковывать у пользователей 2500 долл. каждый раз, когда они распространяют “дезинформацию”, говорят или делают что-либо “вредное” или “нежелательное” (все это определяется PayPal “по собственному усмотрению”).
Почему это происходит? Почему частные банки и другие предприятия вынуждены так вытеснять платящих клиентов, рискуя навлечь на себя общественный резонанс? Потому что это в их интересах, если они хотят выжить и процветать, да и выбор у них невелик. На самом деле эти банки не являются в полной мере “частными субъектами”, поскольку они представляют собой часть управленческой экономики в зарождающемся управленческом партийном государстве. Управленческий бизнес – это не бизнес, это менеджеризм. И еще раз: в партийном государстве не может быть нейтральных институтов. Враги партии-государства – враги института, либо институт – враг партии-государства (а это не самое выгодное положение). Именно это и означает “репутационный риск”: риск оказаться не на той стороне партийной линии. Отсюда следует, что банк Coutts, основанный в 1692 г. и являющийся настолько квинтэссенцией шикарного истеблишмента, что обслуживает британскую королевскую семью, украшает всю свою штаб-квартиру радужными регалиями лояльности и действует так, будто он, как и AIIB, контролируется “внутренней тайной полицией”.
Таким образом, в настоящий момент, когда управленческая система защищается от вызовов со стороны своих антиуправленческих “популистских” противников, банки автоматически оказываются участниками боевых действий. И банки находятся на переднем крае этой войны, поскольку финансовый контроль – это очевидная следующая эволюция закаляющейся мягкой управленческой системы, ищущей новые методы поддержания стабильности, выходящие за рамки привычной практики описательного контроля. В оцифрованном обществе финансовый контроль, как и нарративное манипулирование, теперь полностью сводится к контролю над виртуальной информацией. Это делает его естественным и привычным инструментом для лис, предпочитающих подавлять инакомыслие с ноутбука. Не нужно пачкать руки, когда твое оружие – клавиатура.
Самое главное, что в таком оцифрованном обществе, как наше, контроль за цифровыми операциями означает слежку и контроль практически за всем. Если человек попадает в дебанк – а затем неизбежно попадает в черный список всех других банков, поскольку банки объединены в сеть и обмениваются информацией о “рисках”, – он оказывается отрезанным от участия практически во всех сферах современной жизни. Они не смогут легко получать зарплату на работе, поскольку обналичивание чеков без счета влечет за собой непомерные комиссии, и их могут даже просто уволить, чтобы избежать неудобств (федеральный закон США разрешает компаниям делать прямые депозиты обязательными). Если же они являются владельцами бизнеса, то у них не будет возможности обрабатывать подавляющее большинство платежей, и они не будут иметь никаких функциональных средств для распределения заработной платы между сотрудниками. Они даже будут отрезаны от основного средства сбора пожертвований, не ограничивающегося мелочью. Они не смогут покупать недвижимость, а в случае многих компаний по управлению недвижимостью, возможно, даже не смогут сдавать ее в аренду. Они не смогут приобрести практически ни одну цифровую услугу и, все чаще, не смогут совершать многие повседневные операции в оффлайне. Как только война с наличными будет выиграна, они окажутся в полной заднице.
Таким образом, дебанкинг, особенно в сочетании с аналогичными формами коммерческой деплатформы других цифровых сервисов, таких как интернет-провайдеры, регистраторы доменов, платформы электронной коммерции типа Amazon или магазины приложений типа Apple, служит чрезвычайно эффективным средством изоляции и принуждения к молчанию целевого лица или группы лиц, быстро разрушая любое присутствие и влияние, которое они могли когда-то иметь в обществе. В этом, разумеется, и заключается смысл.
Это, по-видимому, урок, взятый непосредственно из китайской методики работы с диссидентами. Инакомыслящие уже давно подвергались подобным методам обезличивания, но с приходом “цифрового авторитаризма” они стали еще более уязвимы для постоянного принуждения, а их уничтожение послужило мощным стимулом к тому, чтобы не переступать линию партии. Теперь же система социальных кредитов позволила создать гибкое и удобное средство для масштабного применения такого принуждения. Утопия, несомненно, не за горами.
Окунувшись в воду и попробовав другие уроки Китая, западная управленческая элита, похоже, пришла к выводу, что теперь у нее есть инструменты и свобода действий, чтобы приступить к реализации аналогичной системы у себя. Хотя эта зарождающаяся система еще не столь всеобъемлюща, она имеет те же фундаментальные характеристики: использование координации между государственным и частным секторами и “социального управления” для разрушения любых различий между общественной и частной жизнью, что значительно повышает риск общественного несоответствия и несогласия с нарративом.
Фактически мы можем наблюдать прозрачные шаги к построению системы социального кредитования в широко распространенном сегодня использовании таких инноваций, как ESG (environmental, social, and governance) баллы. Такие баллы, которые используются крупнейшими финансовыми институтами для того, чтобы сделать волевое соответствие определенным социальным и идеологическим практикам обязательным условием доступа бизнеса к капиталу, работают на тех же принципах государственно-частного коллапса. Аналогичные схемы оценки под руководством НПО, такие как Индекс корпоративного равенства и британская программа Diversity Champions, также появились и достигли запредельного уровня влияния благодаря тому, что эти оценки используются, по сути, как вымогательские операции, угрожающие тем компаниям, которые не соответствуют требованиям, шантажом и лишением статуса “репутационного риска”. Такие компании приходят к выводу, что для поддержания своих баллов они должны управлять соответствием и клиентов (что прямо признается в документах Coutts, когда в качестве причины отставки Фараджа приводится “наша позиция в отношении ESG/разнообразия”).
Как далеко все это может зайти? Хотя сегодня в центре внимания находится мощная сфера финансовых потоков, нет никаких оснований полагать, что при сохранении нынешней траектории развития та же динамика не будет единым фронтом применена ко всем другим секторам нашей экономики и общества. Если в скором времени людей начнут выселять из страховых полисов за нецензурные высказывания в Интернете (или за общение с большим количеством людей), в договорах аренды квартир появятся пункты об идеологической морали, а авиакомпании объединятся, чтобы запретить путешествовать клиентам с неправильными убеждениями, не стоит удивляться – это будет просто поведение ужесточающегося менеджеризма, стремящегося к стабильности через механистический контроль над всеми деталями жизни.
Новые технологии, такие как искусственный интеллект и, особенно, цифровые валюты центральных банков (ЦБЦБ), будут только продолжать делать этот вид гранулярного контроля все более и более возможным.[22] И все, что может быть использовано, будет использовано. Несколько месяцев назад один человек оказался полностью лишенным доступа к своему “умному дому” с цифровым управлением со стороны Amazon после того, как водитель доставки обвинил его дверной звонок в том, что тот сказал что-то расистское.[23] Зачем Amazon это делать? Потому что они могут это сделать; и поэтому, в конце концов, в условиях управленческого режима они должны это сделать. Когда наши менеджеры обнаружат, что с каждым днем им все легче и легче “решать” проблемы с людьми одним нажатием кнопки, они не смогут удержаться от того, чтобы не нажимать эту кнопку, сильно и часто.
Таков сам weltanschauung – весь способ видения и убеждения – управленческого ума. По мере того как все больше и больше людей попадает в технологический захват управленческой машины, ее хватка будет только усиливаться. Ведь, как мы уже должны ясно видеть, “нет и не может быть никакого простого увеличения власти на стороне человека”, производимого технологией. Неизбежно “каждая новая власть, завоеванная человеком, есть власть и над человеком”.
Конец пути великой конвергенции менеджериализмов, похоже, лежит под сенью цифрового тоталитаризма.
Заключение: Тотальное техно-государство
Книга Джеймса Бернхема “Управленческая революция” оказала большое влияние на одного автора. Размышляя об этой книге в 1945 году, Джордж Оруэлл сетовал на то, что “картина нового мира, созданная Бернхэмом, оказалась верной”. В этом новом мире:
Капитализм исчезает, но социализм не приходит ему на смену. Возникает новый тип планово-централизованного общества, которое не будет ни капиталистическим, ни демократическим в общепринятом смысле этого слова. Правителями этого нового общества станут люди, фактически контролирующие средства производства: руководители предприятий, техники, бюрократы и солдаты, объединенные Бернхэмом под названием “менеджеры”. Эти люди уничтожат старый класс капиталистов, подавят рабочий класс и так организуют общество, что вся власть и экономические привилегии останутся в их руках. Право частной собственности будет отменено, но общая собственность не будет создана. Новое “управленческое” общество будет состоять не из множества мелких независимых государств, а из огромных сверхгосударств, сгруппированных вокруг главных промышленных центров Европы, Азии и Америки. Эти супергосударства будут бороться между собой за обладание оставшимися незахваченными участками Земли, но, скорее всего, не смогут полностью завоевать друг друга. Внутри каждое общество будет иерархическим, с аристократией талантливых людей наверху и массой полурабов внизу.
Это видение мира, пораженного управленческой конвергенцией, стало основой для самого известного романа Оруэлла “1984″. Сейчас этот мир обретает форму.
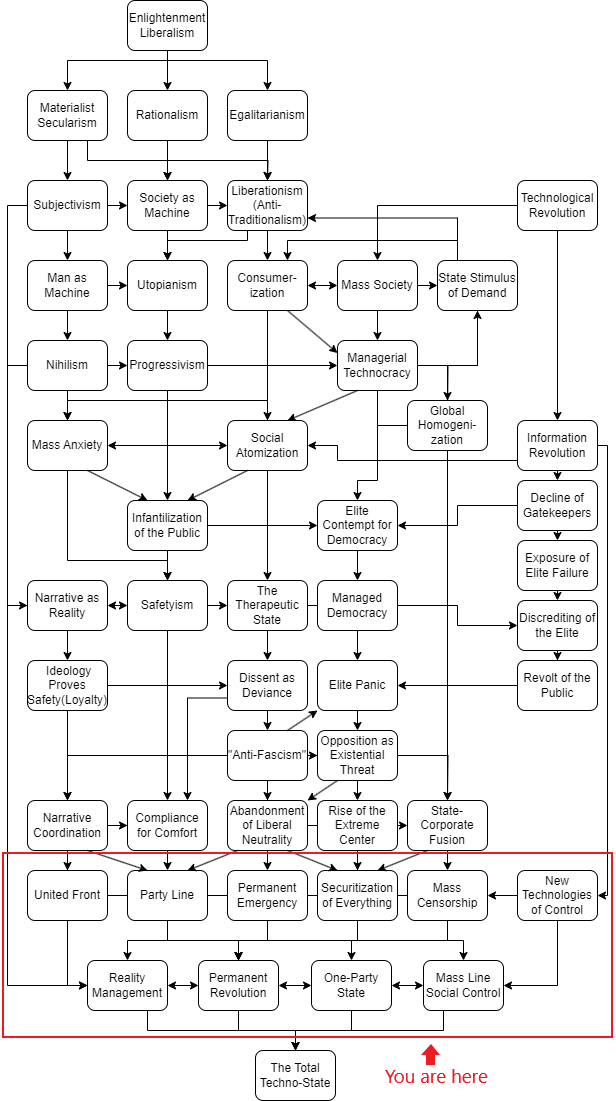
Сегодня великие супергосударства борются за обладание землей. Но при всех прежних рассуждениях о том, что XXI век будет определяться “столкновением цивилизаций”, сегодня существует только одна, удушающая форма современной цивилизации, которая растянулась по всему земному шару, и ее многочисленные личности борются между собой за имперское превосходство. На Западе прогрессивный менеджеризм за столетие манипуляций мягко задушил демократию, выдолбил ее и теперь носит ее кожу. На Востоке завезенный вирус коммунистического менеджериализма уничтожил некогда великую цивилизацию в реке крови, а затем кристаллизовался в холодную, жесткую машину, которая сегодня правит землями Китая. Фашистский менеджеризм, уничтоженный своими братоубийственными братьями и сестрами, продолжает жить в их генах.
Менеджмент сегодня настолько завоевал мир, что большинству из нас он может показаться единственно возможной вселенной, той самой водой, в которой мы плаваем. Переписав свою историю и обуздав свое сознание, как и предсказывал Оруэлл (и другие пророки), мы теперь с трудом пытаемся даже осознать его существование, не говоря уже о том, чтобы прорвать железную парадигму управленческого мышления и признать, что и как форма правления, и как способ существования он является в человеческом опыте чем-то совершенно новым, ненормальным, тираническим и абсурдным.
Гротескная патология менеджеризма, порожденная основными идеями современности, определяется безграничным высокомерием и неумолимым редукционизмом. Рассматривая природу, человека и общество как сырье, которое с помощью чистого воображения и технического мастерства можно ломать и перестраивать по своему усмотрению, этот левиафан в своей гордыне приходит к убеждению, что даже реальность должна подчиняться его воле. В предельных нарциссических амбициях своего идиотского рационализма он по своей сути тоталитарен. Действительно, “тотальный” в тоталитарном – это сама суть управленческого подхода на его глубочайшем уровне, и эти два понятия невозможно разделить. Так и управленческий менеджмент всегда обещает прогресс и совершенствование человека, но затем неизбежно приводит к бесчеловечности в промышленных масштабах.
XX век завершился катастрофическими потрясениями и разрушениями, которые обрушила на мир первая большая волна управленческого тоталитаризма. Гидра этого тоталитарного зла в своих многочисленных обличьях была в этой борьбе ранена, но не убита. Теперь XXI век сотрясается от потрясений, вызванных ее возрождением.
Разделяя одну и ту же управленческую гордыню, соблазняясь одной и той же растущей технологической мощью и стремлением инженеризовать разум и душу человека, укрываясь от одних и тех же элитных страхов и заблуждений и пытаясь противостоять многим из одних и тех же вызовов, Китай и Запад сегодня с разных сторон ведут дело к этому возрождению. И хотя они сталкиваются друг с другом, каждый из них – жесткий и мягкий, модернистский и постмодернистский – по-своему движется к одной и той же судьбе: к социально обусловленному подчинению всего человеческого, реального и свободного технократическому нигилизму и ложной реальности всеобъемлющего машинного правительства – тотальному техно-государству.
На мой взгляд, сегодня очевидно, что великая задача человечества в XXI веке остается в основном той же самой, что осталась незавершенной в битвах XX: вновь пробудить и утвердить пламя человеческого духа, вернуть ему традицию и естественное право на самоуправление. А затем с этим духом, опираясь на огонь и меч истинной человеческой любви и свободы, правды и разума, подняться в контрреволюции против зла своего врага и навсегда вырвать из мира ложный порядок менеджеризма и все его ядовитые идеологические отродья.
Если вы дочитали до этого момента: спасибо, и я надеюсь, что это было полезно и стоило вашего времени. На написание этой статьи ушла целая вечность, но я решил оставить ее в свободном доступе, потому что считаю важным, чтобы каждый понял – в меру своих скромных возможностей – то, что, по моему мнению, происходит в современном мире. Так что если кто-то, по вашему мнению, должен это прочитать, то, пожалуйста, поделитесь с ним. И если вы также считаете, что это важно, пожалуйста, станьте платным подписчиком и оставьте комментарий ниже. Я искренне ценю любую вашу поддержку.
И если после прочтения всего этого вы зададитесь вопросом: “Хорошо, но что же делать?” – не волнуйтесь. Как я расскажу подробнее в отдельном посте, этот подстатейник теперь будет переключен на этот вопрос как на основную тему. Так что если вам это интересно, почему бы не подписаться?
[1] Здесь и далее я черпаю и синтезирую опыт Джеймса Бернхема, Джорджа Оруэлла, Сэмюэла Т. Фрэнсиса, Кристофера Лаша, Бертрана де Жувенеля и других выдающихся наблюдателей управленческой революции и ее последствий.
[2] Использование терминов “буржуазия” и “буржуа” здесь относится к среднему классу ранней и средней индустриализации; это может сбить с толку, поскольку сегодня “буржуа” часто используется для обозначения избалованного постиндустриального верхнего среднего класса, т.е. образованного в колледжах управленческого класса “ноутбуков”, который к настоящему времени в значительной степени вытеснил и маргинализировал старый средний класс, ставший в современной Америке нижним средним или “рабочим классом”. Но для простоты я решил все же использовать ту же терминологию, что и авторы, упомянутые в предыдущей сноске.
[3] Понятие “интеллигенция” возникло в России XIX века и с самого начала использовалось для обозначения чего-то совершенно иного, чем “интеллигенция”. Быть “интеллигентом” (членом интеллигенции) означало принять специфическую идентичность как часть нового просвещенного революционного класса. Как поясняет Гэри Сол Моррисон, “если под “интеллигентом” понимать любознательного человека, думающего самостоятельно, то интеллигент был близок к своей противоположности… Интеллигент подписывался под набором убеждений, которые считались абсолютно определенными, научно доказанными и обязательными для любого нравственного человека. Строгий интеллигент должен был быть приверженцем какой-либо идеологии – популистской, марксистской или анархистской, – которая была направлена на полное разрушение существующего порядка и замену его утопией, которая одним махом устранит все человеческие беды”. (Моррисон также приводит замечательное высказывание Михаила Гершензона о том, что “в России почти безошибочным показателем силы гения художника является степень его ненависти к интеллигенции”).
[4] Жесткие управленческие режимы также, как наверняка возразит любой марксист старой закалки, отвергают дематериализацию, по крайней мере, в своей риторике. Но на самом деле их попытки установить всеобщий контроль над всеми ресурсами и неустанно навязывать реальности абстрактную идеологическую теорию означают, что на практике они этого вовсе не делают. В конечном счете, они превращаются в порождения чистой теории.
[5] Будучи губернатором штата Нью-Джерси, Вильсон с энтузиазмом выступал за принятие и подписал закон о принудительной стерилизации всех “безнадежно дефективных и преступных классов”. Главным евгеником, разработавшим этот закон, был доктор Эдвин Катцен-Элленбоген, впоследствии работавший на нацистов в Бухенвальде, где он умертвил с помощью смертельной инъекции не менее 1000 заключенных.
[6] Кроме того, Вильсон, как ни странно, стал первым доктором философии и первым президентом университета (Принстона, 1902-1910 гг.). Хуже того, он был также президентом Американской ассоциации политических наук (1909-1910 гг.).
[7] Он также был тем монстром, который изначально придумал “понедельники без мяса”.
[8] Хотя позднее Мао осудил Дьюи и его прогрессивные теории за то, что они были скорее реформистскими, чем достаточно революционными.
[9] Как записано в книге Frank Dikotter, The Tragedy of Liberation: A History of the Chinese Revolution 1945-1957 (2013).
[10] Jung Chang and John Halliday, Mao: Неизвестная история (2006)
[11] Когда неомарксисты и критические теоретики 1960-х годов, такие как Пауло Фрейре, выступали за использование школы в качестве “необычного инструмента для построения нового общества и нового человека”, им не нужно было импортировать какие-либо новые, чуждые идеи из марксизма… Америка уже была погружена в собственные, почти идентичные традиции прогрессивного управленческого подхода к образованию.
[12] Поскольку это оказалось столь актуальным, я многое заимствую из превосходного и занимательного эссе Кроуфорда в журнале UnHerd о революционном терапевтическом государстве, поэтому настоятельно рекомендую вам прочитать его полностью: https://unherd.com/2022/12/the-politics-of-masturbation/.
[13] Аппаратчик (аппаратчик): штатный профессиональный сотрудник советской бюрократии, или аппарата (“аппарат”). Поскольку таких сотрудников часто переводили с одной должности на другую, практически не обучая практическим навыкам работы, термин “аппаратчик”, или “агент аппарата”, был, как правило, единственным возможным описанием призвания такого человека.
[14] Я и сам колебался по этому поводу, написав в статье “Нет, революция не закончилась“, что, возможно, вокизм не следует называть “революционным”, поскольку он не ставил своей целью замену элиты и ее системы. Но, поразмыслив, я бы сказал, что да, он действительно заслуживает названия революционного, поскольку на практике большинство революций на самом деле служат если не элите в целом, то одной фракции элиты против другой.
[15] Конечно, можно утверждать, как это делают некоторые, что управленческий менеджмент, как и практически вся современность, является окончательно левым по своей природе, а правые практически исчезли со времен Французской революции. Но этот спор выходит за рамки данного эссе, и, честно говоря, я думаю, что попытка рассмотреть его только запутает суть дела. Поэтому я остановился на более распространенных определениях левого и правого.
[16] Не случайно политика “центр – периферия” на Западе также приобрела буквальный характер, почти повсеместно представляя собой конфликт между географическими центрами-метрополиями и их периферийными сельскими и пригородными “глубинкам”.
[17] Например, в период подготовки к гражданской войне в Испании “левоцентристское” республиканское правительство (считавшее себя защитником умеренной либеральной демократии) настолько параноидально воспринимало угрозу со стороны “крайних” (читай – правых, которых оно обвиняло в большей жестокости левых), что стало предпринимать все более внеконституционные действия по отстранению оппозиции от участия в политической жизни во имя защиты демократии. Это привело лишь к делегитимации демократии и кризису, разрушившему государство.
[18] По состоянию на апрель 2023 г. в США действовало не менее 41 чрезвычайного положения, объявленного федеральным правительством, причем некоторые из них действовали уже несколько десятилетий, и каждое из них ежегодно продлевалось президентом.
[19] В Китае есть замечательная старая идиома, описывающая ситуацию, когда люди игнорируют реальность и лгут, чтобы продемонстрировать верность партийной линии: zhilu weima (指鹿為馬), что дословно означает “показать на оленя и назвать его лошадью”. Оно происходит из истории о зловредном премьер-министре, который, чтобы выяснить, кто останется ему верен во время предательского заговора, приносит ко двору императора оленя и объявляет его лошадью. Все придворные, которые согласятся с тем, что олень – это точно лошадь, он знает, будут слушаться его во всем, а тех, кто засмеется и укажет, что это явно олень, он казнит.
[20] Интересный факт: китайская полицейская система наблюдения за большими данными получила буквальное название “Скайнет”.
[21] Фактически, чтобы иметь возможность перейти дорогу среди машин и мотоциклов, которые никогда не останавливались, нужно было выучить ритуалы своего рода устоявшегося культурного танца: дождаться, пока проедет одна машина; каузально пройти через поток машин к центральной линии; встать вместе со всеми на середине дороги; дождаться подходящего момента, чтобы перейти остальную часть пути, когда за тобой проносятся машины. Этот танец был отлажен до мелочей: машины, которые действительно притормаживали возле стоящих посреди дороги пешеходов, вызывали всеобщее раздражение, поскольку нарушали плавный и предсказуемый график движения пешеходного потока.
[22] Осталось только дождаться, когда будут готовы микросхемы интерфейса “мозг-машина”…
[23] Честно говоря, я не могу поверить, что это предложение мне пришлось написать.